Бобринские и Миклашевские. 1914-1920
Бобринские в 1914-1920 гг.
Отец Екатерины, жены Ильи Миклашевского, Алексей Александрович Бобринский (1852 – 1927) был одним из богатейших землевладельцев Российской империи, его основная собственность располагалась в Смеле (Киевская губерния) и включала 6 сахарных заводов и один винокуренный завод. У него также была роскошная резиденция в Петербурге. Предводитель дворянства Санкт-Петербургской губернии. Был председателем Санкт-Петербургской городской думы (1907-1908), членом Государственной Думы (1909-1912), пока не был назначен членом Государственного Совета (1912-1917). Он также возглавлял Императорскую Археологическую комиссию (1886-1917).
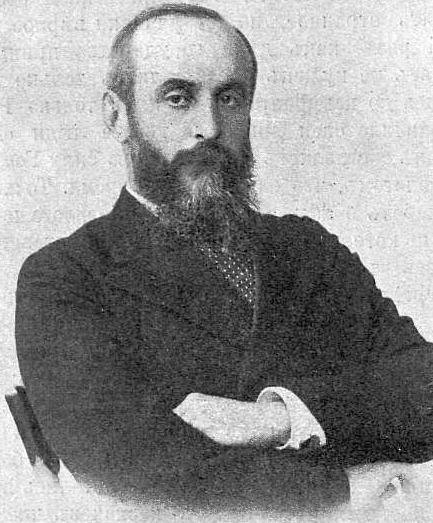
Алексей Александрович Бобринский (1852 – 1927)
Его сын, Алексей Бобринский, в своих неопубликованных воспоминаниях приводит следующие подробности о Бобринском дворце и об основных занятиях отца в то время.
«Дом Бобринского имеет интересную историю; он был построен итальянским архитектором Луиджи Руской для богатого помещика Мятлева, занимающегося продажей государственных спиртных напитков. Строительство его было уже почти закончено, когда старший граф Бобринский играл в вист с императрицей Марией Федоровной, и она пожаловалась ему, что здание, в котором размещались разные ее благотворительные учреждения, слишком мало и что она ищет здание побольше. Бобринский, будучи сыном императрицы Екатерины Великой и, следовательно, сводным братом императора Павла, сразу сказал: «Madame, ma maison est à vous», он имел в виду свой дом на Мойке, подаренный его матерью Екатериной. Императрица была поражена такой великой щедростью и сказала, что он может подыскать себе другой дом, который она купит для него. Тогда он выбрал дом Мятлева, в который Мятлев еще не переехал. Таким образом, переезд и Бобринского, и благотворительных учреждений мог бы происходить спокойно, не вызывая никаких неудобств и задержек».

Дворец Бобринских на Галерной улице в Санкт-Петербурге
В доме Бобринских 130 комнат, после революции он был отдан под филиал Санкт-Петербургского университета, но в советское время существенно обветшал. Сейчас в этом здании располагается факультет свободных искусств и наук СПбГУ.
О деятельности петербургского предводителя дворянства сын Алексей сообщал следующие подробности: «Эта должность облекалась множеством полномочий и обязанностей. Сюда входили проверка набора в армию, проверка дел обанкротившихся дворян вплоть до постепенного погашения их долгов за счет доходов от бесхозяйственных имений, контроль над благотворительными учреждениями и сумасшедшими домами, не говоря уже о балах, организуемых для дворян и проходивших в Дворянском доме. На такие балы могли приезжать царь и императрица, и в этом случае предводитель дворянства открывал бал, танцуя вальс или полонез в первой паре с императрицей. Все это не вознаграждалось, и предводителю дворянства приходилось покрывать многие расходы из собственного кармана. То же самое относилось и к предводителям дворянства в других губерниях, например к Михаилу Ильичу Миклашевскому в Екатеринославе, хотя и в меньших масштабах».
Распорядок дня отца Алексей описывал так: «Отец никогда не пропускал заседаний Государственного Совета, эти заседания были длительными и изрядно утомляли его, так как он страдал одышкой и стенокардией. У него была машина «Хочкис», и почти каждый день шофер Никандр возил его либо в Зимний дворец на заседания Археологической комиссии, председателем которой он был 36 лет, либо на Государственный Совет. Оттуда он время от времени ходил на Апраксинский рынок, где искал антиквариат и где был известной личностью. Иногда он находил или ему дарили интересные предметы, такие как полностью почерневшие старые картины или иконы, которые он умел распознавать, поскольку сам был знатоком древнего искусства и проводил раскопки в старых скифских курганах, многие из которых располагались на его собственных владениях, куда он приезжал каждое лето, или на месте расположения старых греческих колоний в Крыму».
Алексей Александрович был женат (23.02.1883) на Надежде Александровне Половцовой, (1865-1920), дочери промышленника и мецената Александра Александровича Половцова, наследнице значительной доли капиталов барона Штиглица. С 15 марта 1906 года в разводе. В семье имела прозвище «Хопи» или «Хоупи» - от английского Hopey – Надежда.

Графиня Надежда Александровна Бобринская (ур. Половцова, 1865-1920)
В браке родились четыре дочери и один сын:
Екатерина (1883-1954), фрейлина двора (01.01.1903), с 30 апреля 1908 года замужем за Ильей Михайловичем Миклашевским (1877-1961).
Надежда (1884—1896), умерла от аппендицита.
Домна (1886 - 1956), фрейлина двора (02.02.1908), с 1908 года замужем за графом Дмитрием Александровичем Шереметевым (1885-1963).
София (1887-1949), фрейлина двора (01.01.1907), с 1907 года замужем за князем Петром Александровичем Долгоруковым (1883-1925). После развода вышла замуж 12 ноября 1918 года в Петрограде за князя Петра Петровича Волконского (1872-1957).
Алексей (3.10.1893, СПб - 6.02.1971, Лондон), женат трижды.

Сестры Бобринские, дети Алексея Александровича и Надежды Александровны.
Слева направо: Софья Алексеевна (1887-1949), Домна Алексеевна (1886-1956),
Екатерина Алексеевна (1883-1954).
Алексей Александрович Бобринский много времени уделял общественным и государственным делам, но главным его увлечением была археология. На рубеже 1870-1880-х годов А. А. Бобринский начал раскопки степных курганов на территории своего имения в Смеле, продолжавшиеся много лет. Им было исследовано 523 кургана, давших богатейший и очень ценный в научном отношении материал. В 1913 году Бобринский участвовал в проводимых Н. И. Веселовским раскопках царского скифского кургана Солоха, где был найден золотой гребень с изображением скифов, который сейчас хранится в Эрмитаже.
По материалам своих исследований А. А. Бобринский выпустил, начиная с 1887 года, три тома богато иллюстрированного издания «Курганы и случайные находки близ местечка Смелы», в котором весь найденный материал классифицировался в соответствии с принятой в европейской науке «системой трех веков». В 1902 году «Курганы и случайные находки…» получили большую золотую медаль Русского археологического общества и до сих пор входят в «золотой фонд» дореволюционной русской археологической литературы.
1 февраля 1886 года А. А. Бобринский был назначен на пост председателя Императорской Археологической комиссии. Благодаря его активной деятельности был подготовлен и принят новый устав Археологической комиссии. Новый устав позволял контролировать и систематизировать ведущиеся раскопки, а обязательное теперь представление научного отчета и найденных предметов позволили собрать в архиве Комиссии богатейший и бесценный материал, которым пользуются и современные археологи.
Вторым направлением деятельности А.А.Бобринского стала активизация раскопок, производимых Комиссией. Особо следует отметить масштабные исследования в Херсонесе и Ольвии. Председатель Комиссии смог вовлечь в орбиту её деятельности многих ученых, живших не в Петербурге.
Согласно новому уставу на Комиссию возлагался также надзор за охраной и реставрацией памятников древности. В 1890-е годы при Археологической комиссии был организован Реставрационный отдел, отвечающий за экспедиции, занимавшиеся регистрацией, обмерами и чертежами памятников архитектуры. В 1903 году начался выпуск «Известий Археологической комиссии», всего вышло в свет 66 томов.
Супруга А. А. Бобринского, Надежда Александровна, также отметилась в истории России выдающимися научными работами. Она стала одной из первых русских женщин-астрономов, причем сделала свой значительный вклад в развитие науки о звездах. Знакомые Надежды Бобринской считали ее крайне необычной, не похожей на других. Она была гораздо более решительной и деятельной, чем многие женщины ее времени.
Частые отъезды на раскопки мужа позволили Надежде заниматься любимым делом. Она работала в Пулковской обсерватории, занималась астрономическими исследованиями. Известно, что именно Бобринская скорректировала расчет орбиты астероида Геральдина, который был открыт несколькими годами ранее. Надежда Александровна стала автором трудов «Исследование звездной кучи» и «Эфемерида планеты».
Любимое занятие графине пришлось оставить, когда началась Русско-японская война. Она работала в Красном Кресте и была отмечена наградой, а в годы Первой мировой войны активно занималась благотворительностью.
Вот такие были у Екатерины родители. Сестра Екатерины, Домна, вышла замуж за однополчанина Миклашевского, графа Дмитрия Алексеевича Шереметева. Вторая сестра, Софья,
прославилась тем, что стала одной из первых российских летчиц. Ее жизнь полна приключений и неожиданностей для дамы, которая, как и ее сестры, была фрейлиной Императорского двора.
В 1907 году она вышла замуж за Петра Александровича Долгорукова, офицера конной гвардии (развелись в 1913 г.). В том же 1907 году Софья закончила обучение в Женском медицинском институте, после чего большую часть времени проводила в госпиталях, делая операции раненым. Она отправилась на Балканы с другими русскими врачами как представитель медицинской миссии. Когда в Сербии разгорелась эпидемия холеры, Софья Алексеевна отправилась в город Кочани, где открыла больницу. Благодаря ее усилиям, напрямую связанным с риском для жизни, были спасены сотни людей.
С не меньшей страстью Софья Долгорукова отдавалась своему увлечению новинками техники. Она стала одной из первых женщин-автомобилистов. Кроме того, княгиня осваивала технические новинки авиации, став весьма успешным пилотом. Начальную авиационную подготовку Софья Алексеевна проходила во Франции, а в России с отличием окончила школу пилотов при Императорском аэроклубе.

Софья Долгорукова во время Императорского пробега 1910 г.
Когда началась Первая мировая война, княгиня отправила прошение принять ее в военную авиацию, однако оно было отклонено. Но Софья Долгорукова все-таки оказалась на фронте - в качестве сестры милосердия. Когда весной 1917 года появился указ, разрешающий женщинам проходить военную службу, медсестра тут же пополнила ряды корпусного авиационного отряда.
А вот довольно пространный рассказ о Софье Бобринской за авторством исследователя белого движения Кирилла Орлова.
"Графиня София Алексеевна Бобринская (1887–1947), четвертая дочь известного общественного и научного деятеля графа Алексея Александровича Бобринского, родилась 25 декабря 1887 г. в Санкт-Петербурге. Получив, как и ее сестры, фрейлинский шифр, она в 1907 г. обвенчалась с корнетом конной гвардии князем Петром Александровичем Долгоруковым, родила дочь Софию, но этот брак оказался неудачным и вскоре распался. По свидетельству правнучки Софии Алексеевны, «брак дал ей свободу. Ей было неинтересно появляться при дворе в красивых платьях. Она всегда одевалась просто — носила длинную юбку и блузку».
Круг интересов Софии Алексеевны многообразен: медицинское дело, автомобили, аэропланы… В 1910 г. она — единственная женщина среди участников Киевского автопробега на приз императора Николая II по маршруту Петербург — Киев — Петербург протяженностью 3200 км. В 1911 г. она окончила авиационную школу Блерио в Париже. Во время Балканской войны между сербами и болгарами София Алексеевна отправилась добровольцем в Сербию, участвовала в ликвидации холеры в лагере сербского Красного Креста и приняла орден из рук короля Петра I. Она стала, возможно, первой в истории русской женщиной-летчицей, окончив Гатчинскую военную воздухо-плавательную школу и получив в 1913 г. диплом на звание пилота. По окончании Женского медицинского института София Алексеевна получила также диплом врача-хирурга.
С началом Мировой войны прапраправнучка Екатерины Великой ушла на фронт, ухаживала за ранеными в Польше и на Персидском фронте и за выдающуюся работу в Красном Кресте была награждена четырьмя медалями на георгиевской ленте. По свидетельству правнучки, в 1917 г. «премьер-министр Временного правительства Керенский официально разрешил женщинам служить в армии. Софья Долгорукая совершила несколько боевых вылетов на разведку в качестве наблюдателя».
В годы революции София Алексеевна встретила своего будущего второго супруга, светлейшего князя Петра Петровича Волконского, коллежского советника МИД. Поэт и литератор, Петр Петрович был известен в кругу людей Серебряного века.
В ноябре 1918 г. он обвенчался в петроградской церкви Скорбящей Божией Матери на Шпалерной улице с Софьей Алексеевной. При записи в ЗАГСе гражданин Волконский был зарегистрирован как филолог, а гражданка Бобринская — как домохозяйка.
Новобрачная впоследствии с горьким юмором писала: «Когда мы уходили, П.П. обратил мое внимание на большую красную ленту, гирляндою протянутую через зал. На ленте виднелась надпись: "Она ждет его". "Как это трогательно, — воскликнул П. П., — это, вероятно, относится к невесте, ожидающей жениха". Мы подошли ближе. "Буржуй хочет гильотины. Она ждет его", — гласила надпись. Под этой эмблемой положено было начало нашей совместной жизни».
В мае 1919 г. княгиня пересекла советско-финляндскую границу, отправляясь на поиски дочери, которая, как выяснилось потом, была эвакуирована из Крыма с бабушкой, княгиней Долгоруковой, на борту британского крейсера «Мальборо».
Узнав об аресте Волконского, София Алексеевна снова устремилась в Петроград. В рядах армии Юденича она добралась до Гатчины, где упокоился прах Павла Шувалова, а оттуда пешком дошла до Петрограда — вызволять мужа, который в числе заложников угодил в Петроградскую тюрьму и просидел там несколько месяцев, удивляя сокамерников самообладанием и юмором.
«В тюрьме идет перекличка:
— Волконский!
— Здесь!
— Князь?
— Светлейший!»
В Петрограде Софии Алексеевне жилье предоставила Анна Ахматова — это была комната в Доме художников. Тут она узнала, что мужа перевезли в Ивановский концлагерь, в Москву. С письмом Максима Горького в защиту заложника княгиня отправилась в Москву. Ходатайствовала за супруга, где возможно, в том числе перед комиссаром Красиным. Дошла бы и до вождя мирового пролетариата, но, как пишет С.А., «узреть лицо Ленина в предмавзолейный период его биографии было для простого смертного столь же трудно, как, например, взглянуть в открытое лицо любимой наложницы какого-нибудь Абдул Гамида». С невероятным трудом София Алексеевна добилась освобождения мужа. В 1921 г. Волконские уехали в Эстонию. Вскоре волны истории выбросили супругов на берега Сены — без франка за душой.
Князь Г. И. Васильчиков рассказывал о парижском знакомстве с Волконским: «Он был женат на Долгорукой, первой русской летчице. В эмиграции она стала таксисткой и содержала семью, поскольку муж зарабатывать не умел». В 1934 г. в Париже были изданы записки Софии Алексеевны — «Горе побежденным». Она оставила статьи и стихи. Умерла княгиня 8 декабря 1949 г. в Париже и была похоронена на кладбище Батиньоль.
«Из нашей жизни ушла замечательнейшая русская женщина, — писал поэт и критик Георгий Иванов, — необыкновенно одаренная и своеобразная. В любой стране ум, литературный талант, душевная исключительность и энергия покойной С. А. Волконской обратили бы на нее всеобщее внимание, поставили бы ее на заслуженную высоту. В любой “своей” стране. Но ведь она долго жила и умерла не в своей стране».
У Екатерины был еще брат Алексей на 10 лет младше ее.

Алексей Алексеевич Бобринский – «Мурза» (1893-1971)
и его жена Наталья Павловна (ур. Ферзен, 1890-1935)
Алексей в 1911 г. окончил Санкт-Петербургскую окружную гимназию, поступил на филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1913 перешел в Магделейн колледж Оксфордского университета. Начало Первой мировой войны застало его на каникулах в России. Поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардейский Гусарский полк. В октябре 1914 направлен на ускоренные офицерские курсы. В 1915 окончил Пажеский корпус. 1-го июля 1915 выпущен офицером в 16-й Иркутский гусарский полк. Ввиду исключительного знания английского языка в феврале 1916 был прикомандирован к морскому Генеральному штабу по отделу путевых перевозок с севера и для связи с английскими подводными лодками в Ревеле. Адъютант великого князя Николая Николаевича. С сентября 1917 по сентябрь 1918 жил в Кисловодске. С сентября 1918 до апреля 1919 член финансовой комиссии Добровольческой армии. Затем офицер для связи с английским военным губернатором в Батуме.
С июня 1919 по май 1920 г. Алексей - помощник военного агента в Стокгольме. С мая по сентябрь 1921 завершил образование в Оксфорде, где получил звание магистра гуманитарных наук. В 1922 корреспондент по Восточной Европе английских газет «Дейли Телеграф» и «Уайт Холл Гэзетт». В 1929 рантье, жил в Аньере, Франция; устраивал выставку в Марселе. В эмиграции жил также в Голландии и Германии. С 1930-х жил в Париже и его пригородах. Затем жил в Англии. В 1952 возглавлял делегацию Русского национального объединения в Англии. Член Союза русских дворян. Полномочный представитель Союза русских дворян в Англии. Знаток антиквариата. Мемуарист. Автор книги: Астрономия Библии. Париж, 1928. C 1950-х снимался в кино.
Бобринские в 1914 г.
В начале Первой мировой войны Алексей Александрович Бобринский спросил своего двадцатилетнего сына Алексея (по прозвищу Мурза), в какое военное училище он хотел бы поступить. Поскольку он был единственным сыном в семье, по закону он не подлежал мобилизации; тем не менее, он попросил отца позволить ему пойти в армию добровольцем. Он сказал: «Зачем мне идти в школу? Через три месяца война закончится, и я все еще буду учиться в школе, я хочу немедленно пойти рядовым». «Вы можете это сделать, но эта война будет долгой, и не нужно спешить». Но Мурза настоял на своем и связался со своим дядей Георгием Бобринским (родной брат Алексея Александровича), который сразу же заставил его записаться в Лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк, с которым он вскоре оказался в составе армии генерала Ренненкампфа, продвигаясь в Восточную Пруссию.
27 сентября, когда они ехали верхом в боевом порядке, он был рядом с великим князем Олегом Константиновичем (сыном великого князя Константина Константиновича, бывшего начальником генерала Епанчина в Пажеском корпусе), когда великий князь, которому тогда было двадцать три года, был смертельно ранен выстрелом в живот, и дядя Мурза был первым из тех, кто попытался оказать ему первую помощь.
Поражение русских в Восточной Пруссии было частично компенсировано победой на юго-западном фронте над Австро-Венгерской империей. Там русские оккупировали большую часть австрийской провинции Галиция, население которой составляло преимущественно украинцы. Аннексия этой провинции была одной из целей Российской империи в Первой мировой войне. Губерния и ее столица Лемберг (ныне Львов) находились под контролем русских с сентября 1914 года по июнь 1915 года, и двоюродный дед Георгий Бобринский был назначен русским губернатором этой губернии, а митрополит Евлогий был отправлен туда в качестве представителя Русской Православной Церкви. Об их деятельности там рассказывает в своих воспоминаниях митрополит Евлогий.
Митрополит Евлогий был тогда архиереем Волыни, важной провинции, граничащей с Австро-Венгерской империей. Он был известен своей деятельностью, направленной на защиту всех православных, проживающих за пределами России, и, в частности, православных крестьян, живших в тогдашнем российском «Царстве Польском», преследуемых своими польскими помещиками-католиками за то, что они не отказались от своей православной веры. Все действия, которые он предпринял через царскую администрацию, оказались тщетными, поскольку Церковь имела мало влияния на политику правительства. Затем он сам был избран в Думу, где предложил закон, который отделил бы Холмскую область (ныне Хелм) от Польского королевства, чтобы сделать ее собственно российской провинцией с православным большинством, а он был бы назначен епископом Холмским. Закон был легко принят Думой, но вызвал огромный резонанс среди польского населения Империи и принес Евлогию большую известность в русских националистических кругах.
Евлогий вмешался в ситуацию в Галичине следующим образом: он был чрезвычайно занят организацией госпиталей в своей губернии для ухода за ранеными солдатами, присланными с фронта, когда получил телеграмму от Саблера, тогдашнего прокуратора Священного Синода, высшего органа Православной Церкви России. В телеграмме говорилось: «Немедленно приезжайте в Петербург». Вот как он описывает эти события:
«Приехав в Петербург, я представился Саблеру и был сбит с толку его приветствием: «Поздравляю, вы назначены руководить церковными делами на оккупированных территориях», мы хотели назначить архиепископа Антония и я доложил об этом намерении императору, но он написал в этом рапорте: «Назначьте для этой задачи архиепископа Евлогия». Мне показали решение царя, написанное его собственным почерком синим карандашом.
Я испугался, что мне делать в Галиции? Как можно управлять церковными делами в условиях войны? Все было так неясно, так неизвестно, что трудно было представить, как можно справиться с таким заданием. У меня было такое ощущение, будто я иду в тумане. Затем был взят Львов и назначен генерал-губернатором оккупированных территорий граф Георгий Бобринский. Он принадлежал к высшим кругам петербургского общества и был прикомандирован к военному министерству в должности генерала особых поручений. Эти генералы представляли свои ведомства на приемах и других торжественных мероприятиях. Он был родственником графа Владимира Бобринского, бывшего депутата и вице-председателя Думы, заработавшего репутацию ревностного патриота и монархиста, долгое время боровшегося за национальную независимость галицкого народа. Думается, назначение графа Георгия Бобринского на должность генерал-губернатора было связано с тем, что через его родственника Владимира его имя было популярно среди пророссийской части населения Галичины. Графу Георгию Бобринскому не хватало ни административного опыта, ни таланта.
Владимир Бобринский принадлежал к Московской ветви рода Бобринских. Он приходился троюродным братом дедушке Бобринскому и дяде Георгию.
Следует отметить, что население Восточной Галиции вокруг Львова изначально было православным, но на протяжении большей части своей истории оно принадлежало католической Польше, правительство которой пыталось обратить ее в католицизм. Эти усилия, как правило, терпели неудачу, пока не была создана униатская церковь. Этой церкви было разрешено сохранить все православные обряды, но она признала власть Папы Римского. Многие в России считали, что униатская церковь — искусственное создание и что ее следует заставить вернуться в православие. В следующем абзаце митрополит Евлогий излагает свою позицию по этому вопросу, а также позицию дяди Георгия:
«Я приехал во Львов вечером и остановился в Русском доме. Австрийцы когда-то построили прекрасную маленькую церковь для своих буковинских православных солдат на улице Францисканцев, а рядом с ней небольшой дом для настоятеля. Когда мы взяли Львов, дом отдали протоиерею Туркевичу, назначенному членом штаба генерал-губернатора. Я остался с ним. Пока мы сидели за чаем, отец Туркевич посоветовал мне нанести визит генерал-губернатору. Его дом находился через дорогу, и в тот же вечер я пошел к нему. Там собралось многочисленное общество: много генералов и людей других высоких воинских званий. Графиня Ольга Ивановна Бобринская (жена Георгия, урожденная Трубецкая) встретила меня очень дружелюбно, разговор был важный и очень оживленный.
На следующий день генерал-губернатор нанес мне ответный визит, после чего у меня была еще одна встреча с ним, на которой мы обсудили общую ситуацию. Он дал мне понять, что мой приезд сюда был расценен как несвоевременный и что наше военное положение было ненадежным. За время моего первого пребывания во Львове я многому научился. Я понял, что существовало две мнения относительно будущего устройства, а именно: 1) русская администрация во главе с графом Георгием Бобринским была против поддержки проправославного движения в оккупированной Галичине и 2) Русская партия во главе с графами Владимиром Бобринским и Чихачевым и поддерживаемая галицкими «промосковскими» активистами стояла за более предприимчивую, более точную и более энергичную политику в этой области. Я был склонен согласиться с последними, хотя и не соглашался с ними по тактике. Мои сторонники давили на меня и настаивали, чтобы сейчас были предприняты быстрые и решительные шаги, согласно пословице, что надо ковать железо, пока оно горячо. Я не следовал их указаниям и ограничился посещением некоторых приходов, которые добровольно присоединились к нашей Церкви. Я назначал православных священников только тогда, когда прихожане настаивали, чтобы я дал им «настоящего православного священника с бородой», потому что им надоели эти бритые униаты».
Российская оккупация Львова и функции Георгия Бобринского продолжались с 3 сентября 1914 года по 22 июня 1915 года. Львов стал частью Польши после Первой мировой войны и частью Украины после Второй мировой войны.
Георгий Александрович Бобринский и митрополит Евлогий вновь встретились в Париже, где оба прожили остаток своей жизни. Митрополит Евлогий стал главой Русской Церкви во Франции, а Георгий Бобринский - прихожанином его собора на улице Дар в Париже.
Бобринские в 1916 и 1917 гг.
В апреле 1916 года Алексей Александрович Бобринский стал помощником Министра Внутренних Дел, а 20 июля - Министром земледелия. Занимая тот пост менее четырех месяцев, он не имел времени, чтобы предпринять какие-либо важные шаги, но поставки продовольствия в армию и в города были организованы хорошо. Другой очень важной функцией была поставка фуража в войска. В то время механизация в армии была еще небольшая, и большинство поставок осуществлялось гужевым и железнодорожным транспортом. Его главными помощниками были два товарища министра, Риттих и Грудистов, которые были его близкими друзьями.
Думская оппозиция все еще требовала перераспределения земли, а революционеры способствовали дальнейшим незаконным захватам земли, но на деле после Столыпинской реформы, принятой около 1908 года, уже произошли важные изменения в землевладении, и отдельные фермеры уже владели большей частью земли. Однако в те времена министры часто менялись из-за политического давления, и левые партии в Думе начали жестокую кампанию против премьер-министра Штюрмера, которого они обвинили в симпатиях к Германии из-за его немецкого имени и предполагаемой некомпетентности. Алексея Бобринского тогда тоже попросили уйти в отставку. В качестве компенсации Николай II присвоил ему придворный чин обер-гофмейстера.
В конце января Алексей Александрович пригласил влиятельных людей на обед в Бобринский дворец, Мурзе тоже разрешили присутствовать. Среди гостей были генерал Рузский, командующий Северным фронтом, бывшие премьер-министры Штюрмер и Трепов, последний прослужил на этой должности всего один месяц и попросил заменить его во время министерской реорганизации в декабре 1916 года, последовавшей за убийством Распутина. Присутствовали также министр внутренних дел Протопопов, министр земледелия Риттих, сменивший на этом посту Бобринского, А. А. Нарышкин, член Государственного Совета и Дмитрий Александрович Шереметев, адъютант генерала Рузского, женатый на Домне Бобринской. На этом совещании присутствовали все важные члены правительства, за исключением недавно назначенного премьер-министра Голицына, старика, который вряд ли предпримет какие-либо энергичные меры.
Целью обеда было обсуждение того, какие меры можно предпринять, если в столице произойдут беспорядки в то время, когда все на улице довольно свободно говорили о такой возможности. Санкт-Петербургский военный округ находился под командованием генерала Хабалова, которого многие считали некомпетентным. Генерал Рузский настоял на возвращении в Петербург некоторых частей старой Императорской гвардии. Однако это был политический вопрос, и царь, который в то время был сильно обеспокоен убийством Распутина, просто посмеялся над его предложением.
Протопопов был тем человеком, которого нужно было убеждать, поскольку он один мог вмешаться в такие меры в качестве Министра Внутренних Дел. Однако эти разговоры не привели ни к каким практическим выводам, Протопопов даже сказал, что, по его мнению, любую толпу, как бы она ни была разъярена, всегда можно уговорить перейти на свою сторону, стоит только схватить быка за рога. Однако он поговорил с императором и получил его согласие на переброску войск. Когда Протопопов разговаривал с генералом Хабаловым, тот сказал ему, что в Петербурге нет места для размещения таких войск, и Протопопов не настаивал. Мурза считал, что назначение Протопопова Министром Внутренних Дел было большой ошибкой. Фактически он был арестован Керенским при Временном правительстве, а затем убит в тюрьме, когда большевики пришли к власти. Штюрмер также был убит большевиками.
Генерал Рузский вернулся с Дмитрием Шереметевым в свой штаб в Пскове. Помню, много лет спустя в Париже, как его жена Домна сказала, что мне обязательно надо посетить прекрасный средневековый город Псков. Я спросил, почему Псков, а не Москву или Санкт-Петербург, поскольку, казалось, у меня вообще не было шансов когда-либо посетить коммунистическую Россию. Однако я посетил Псков с Павлом и Варварой Епанчиными в 2000 году и, конечно же, не пожалел об этом.
Конечно, опасения моего дедушки Алексея Бобринского были абсолютно оправданы, и одним из шагов Временного правительства в марте 1917 года стал арест нескольких бывших царских министров. Новым министром юстиции в то время был Керенский. Дед хорошо знал его, поскольку они вместе служили в Третьей Думе с 1907 по 1912 год, и разговаривал с ним по телефону сразу после революции. Керенский сказал ему, что он не намерен его арестовывать, но что ему было бы целесообразно временно покинуть Петербург. Дедушка последовал этому совету и через три недели уехал в Кисловодск, где снял дачу. Туда к нему присоединился Мурза с женой и дочерью, поскольку 13 сентября он также покинул столицу, легко получив отпуск из армии, как это сделали в то время многие другие офицеры. Он добавляет, что они путешествовали с роскошью, даже не пересаживаясь на поезд, поскольку воспользовались услугами Compagnie Internationale des Wagonslits, автомобили которой были национализированы почти сразу после февраля 1917 г., без выплаты какой-либо компенсации компании.
…В 1917 году Украина вновь появилась как отдельное от России образование. Это отразилось на нашей семье, поскольку наша основная собственность находилась в Украине и обеспечивала большую часть семейных ресурсов как Миклашевским, так и Бобринским.
Жизнь в Кисловодске поначалу была очень приятной: теплый и здоровый климат, обилие еды и хорошее жилье. Однако ситуация быстро ухудшилась, поскольку солдаты начали покидать фронт и возвращаться в Россию. Они захватили местную администрацию и установили в этом районе Советскую власть, последствия которой описаны в книге Луизы Патен.
Дед Бобринский не выдержал долго этой праздной жизни и вернулся в Петербург, а оттуда в Смелу, находившуюся под немецкой оккупацией. Сахарные заводы работали, и немцы платили за необходимый им сахар. Цена была очень низкой, но таким образом дедушка мог, по крайней мере, получить немного денег. Мать (Екатерина Миклашевская) рассказывала мне, что в то время он и его братья обсуждали возможность перевода денег или ценностей в Германию, но отказались от этого, потому что это было бы непатриотично.
Ситуация изменилась в 1919 году после ухода немцев в ноябре 1918 года, и Украина стала полем битвы между недолговечным украинским правительством, коммунистами и белыми армиями генерала Деникина. Дедушке удалось тогда даже перевести немного денег моему отцу, но осенью 1919 года он сам стал беженцем и едва успел добраться до Одессы, откуда ему с большим трудом удалось эвакуироваться в Константинополь, а затем в Италию и Францию.
Бабушка, Надежда Бобринская уехала в Париж, где у нее была квартира, как только после капитуляции Турции открылся проезд через Константинополь, но вернулась на Кавказ в апреле 1919 года, привезя из Франции очень нужную одежду для моего отца и его семьи. Однако она снова уехала, вероятно, в июле 1919 года, чтобы помочь организовать медицинскую часть для казачьего отряда к востоку от Каспийского моря, но умерла от тифа в форте Александровск в апреле 1920 года.
Дядя Мурза работал в британской миссии на Кавказе, а затем был переведен ими в Батум в мае 1919 года и в конечном итоге оказался военным атташе русской миссии в Стокгольме, где получил известие о смерти своей матери. Посольство перешло в руки красных после того, как некоторое время спустя шведы признали советское правительство.
В Константинополе, после того как ему сообщили о смерти бабушки, дед Алексей Бобринский женился на Раисе Петровне Новиковой, от которой у него родился сын Николай, которого прозвали Помпиком, так как он, по-видимому, был зачат в этих краях. Дедушка некоторое время жил в Италии, прежде чем приехать в Ниццу, а затем уехал в Грасс, недалеко от Ниццы, где и умер в 1927 году в возрасте 75 лет.
Бабушке Бобринской повезло не так, как нашей семье. Ее последняя попытка помочь Медицинской организации Белой Армии или Белому Кресту описана в этом письме ее сыну, дяде Алексею (Мурзе) Бобринскому из форта Александровска (ныне Форт-Шевченко в Казахстане). Дядя Мурза был тогда помощником военного атташе императорской русской миссии в Стокгольме.
Судя по всему, ее казачий отряд был захвачен красными вскоре после написания этого письма, и мы знаем, что бабушка умерла от тифа 20 марта 1920 года. Можно предположить, что после захвата Форта Красной Армией эффективной медицинской помощи бабушке не было.
Это письмо было написано на английском языке, только слова, выделенные курсивом, в оригинальном тексте были на русском языке.
Форт Александровск
1 марта 1920 г.
“Котик, моя экспедиция в Гурьев закончилась полным провалом. Информация по Ростову была настолько неточной, что я ожидала найти линию огня где-нибудь в окрестностях Уральска. Приземлившись в Гурьеве, мы узнали, что большевики только что захватили Калмыкову. (На полпути между Уральском и Гурьевым и стремительно продвигались к Гурьеву).
Мы пробыли две недели в Гурьеве, а затем начали эвакуацию вдоль побережья до форта, где находимся сейчас; та эвакуация была настоящим кошмаром; никто никогда не видел ничего подобного. Нам пришлось пройти около 900 верст безводной, голодной (для верблюдов) пустынной земли. Мы выехали из Гурьева 31 декабря и вошли в форт 15 февраля.
Земля первой части пути была очень тяжелой: мутная и большие пространства с соленой водой, которые приходилось преодолевать. Но через некоторое время дела пошли гораздо хуже: нам пришлось взбираться на очень крутой подъем и несколько дней идти напрямик через Мангышлакское плато. Холод был сильный, к тому же мы попали в ужасную песчаную бурю.
Всю дорогу мы спали под открытым небом, так как палаток у нас не было, и за целый месяц я не мыла ни одной части тела. Восхождение напомнило мне фотографии Суворова в Альпах. Когда наступала ночь, мы больше всего беспокоились о том, доберемся ли мы до места, где есть что-то вроде травы для верблюдов и снег, заменяющий воду.
Наша еда была очень скудной; мы ужасно недоедали, но почти не задумывались об этом, настолько важнее был вопрос о верблюдах. Гибель верблюдов означала смерть в пустыне. И эта беда была уже близко во второй половине путешествия. Мой верблюд уже совсем сдавался, едва мог переставлять ноги. Вся наша группа была сформирована заранее, и у нас не было особой надежды на спасение, так как верблюдов больше не было.
Вдруг, как в сказке, вдалеке появляется атаман Уральского войска со своими людьми и спасает нас с Исаком. Последние пять-шесть дней я путешествовала под конвоем его войск и чувствовала себя гораздо комфортнее. Сначала мы последовали в округ Волжского отряда, где дела обстояли хуже. Ночи были ужасными. Каждую ночь можно было слышать, как больные кричали: «Я замерзаю, я замерзаю»; потом крики прекращались, и по утрам всегда было несколько трупов. Множество людей, как больных, так и здоровых, замерзли насмерть. У одной из наших медсестер были отморожены обе ноги до колен, и она умерла от заражения крови; ампутировать было уже слишком поздно.
Другим сестрам вчера здесь отрезали пальцы. В числе пострадавших и Исак: обе ноги у него отморожены и, возможно, придется отрезать большой палец на правой ноге. Пока он не отморозил ноги, Исак был достоин восхищения; работал, помогал, приносил пользу везде, где только мог. Он стал всеобщим любимцем.
Но с тех пор, как он отморозил ноги, он стал совершенно невыносим: он отказывался делать малейшее дело, даже если оно не мешало его ногам: «О мои ноги! Я без ног! Я не доберусь живым до Форта!». Ты можешь понять, как ужасно неприятно было слышать такие вещи, особенно в тяжелых условиях. Сейчас он находится в больнице.
Прибыв в форт, я обнаружила, что мой пункт снабжения продовольствием и одеждой здесь прекрасно работает. Только я и сестры высадились в Гурьеве; остальной состав остался на борту с нашими припасами, которые из-за льда не удалось выгрузить. На следующий день лодка внезапно ушла из-за боязни застрять во льду. Здесь мы кормим беженцев и отступающие войска, которые, кажется, все едут в Петровск, где мы будем следовать за ними.
Из Петровска, если будет работать железная дорога, я поеду в Кисловодск и Екатеринодар со своим докладом в Белый Крест. А потом я начну работать, чтобы добраться до тебя. Мне очень хочется увидеть тебя и моего очаровательного крестника, но особенно тебя, мой дорогой. Год назад я только мельком видела тебя, а теперь мы снова расстались. Это похоже на иронию судьбы - всегда быть разлученной с тобой, хотя мое единственное желание - быть вместе.
Сложно с деньгами и разрешениями. Одновременно с этим письмом я напишу Саку и Каменке. Возможно, они снизойдут и устроят для меня все необходимое. Просто сейчас у меня около 50 тыс. в Компанейце. Но что такое 50 тыс.? Вероятно, что-то вроде 29 или 30 фунтов. Ты можешь помочь мне? Бесполезно беспокоиться о разрешениях, если у меня нет денег на поездку.
Дела на деникинском фронте, кажется, становятся немного светлее, и люди думают, что он останется хозяином Северного Кавказа. В таком случае я смогу остаться в Кисловодске, если Катя и Домна будут там и будут ждать известий от тебя, Сака и Каменки. О своих дочерях я ничего не знаю с тех пор, как уехала из Ростова в ноябре.
Кончики моих пальцев обморожены. Это единственный ущерб, который мое старое тело получило во время этого ужасного путешествия. Шуба Наташи положительно спасла мне жизнь.
Здесь мне вполне комфортно. У меня есть маленькая уютная комната, и каждое утро я принимаю ванну. Один из четырех наших медбратьев-мужчин спит у входа вместо Исака, который находится в больнице, и приносит все, что мне нужно для нашего перевязочного пункта, который находится в доме напротив меня. Я ела превосходную севрюгу (разновидность осетра) и дикую утку, которую киргизы отстреливают верст за пятнадцать отсюда.
Хлеба здесь очень мало, но не для нас, у которых еще есть приличный запас муки. Цена вещей просто невероятная: бутылка молока (достается с большим трудом) 50 р., овца 4000 р., свежая рыба 80 р. за фунт и т. д.
Но думать обо всем этом очень скучно. Все мои мысли обращены к тебе. Слезы наворачиваются на глаза при мысли о том, что я увижу тебя. Но когда, когда это будет? Я с трудом могу поверить, что такое блаженство возможно. Если бы я могла найти лодку, которая доставила бы меня прямо из Новороссийска в Стокгольм, не заезжая к Икушочке... но не стоит давать волю таким диким мечтам.
Если мне удастся присоединиться к тебе еще через год, я надеюсь, что буду довольна. Хватает ли тебе денег на жизнь? И откуда они берутся? Сак сделал для тебя какие-нибудь приготовления? В письме, которое я получила из Стокгольма, ты не упомянул финансовые вопросы; второе (9 октября) пришло ко мне незадолго до моего отъезда, и с тех пор я ничего о тебе не знаю.
Я полагаю, что лучший путь для твоих писем - это, как обычно, Татищев, если только я не приеду на Кавказ за переменами (sic). Это письмо отправляется майору О'Брайену, главе британской миссии, который покинул Гурьев одновременно со мной. Дай Бог тебе здоровья, Наташе и детям. Я думаю, недели через две мы поедем в Петровск».
Наконец, нужно рассказать о самой Екатерине Бобринской, супруге Ильи Михайловича Миклашевского.

Владимир Зунузин. Портрет Екатерины Алексеевны Бобринской
Первое время после венчания Екатерина Алексеевна часто общалась с семьей Миклашевских и родителями Ильи, которые сняли в Санкт-Петербурге целый этаж по адресу Большая Конюшенная, 5. Сюда же перевезли многие предметы искусства, старинную мебель из родового имения «Беленькое».

В петербургской квартире Миклашевских. Слева направо: Надежда Александровна Бобринская (мать Екатерины), Татьяна Михайловна Гагарина (ур. Миклашевская), Анатолий Анатольевич Гагарин («дядя Тока»), Екатерина Алексеевна Миклашевская (ур. графиня Бобринская), Илья Михайлович Миклашевский, Константин Михайлович Миклашевский, Ольга Николаевна Миклашевская (ур. Тройницкая), Вадим Михайлович Миклашевский, Татьяна Михайловна Гагарина (ур. Черткова). Фото 1909 г.
Видимо, молодые Илья и Екатерина не хотели жить с родителями Бобринскими в их дворце на Галерной улице. Съемная квартира Миклашевских их тоже не устраивала. Поэтому уже в 1910 г. они сняли жилье на улице Сергиевской, 51, в доме А. Г. Копанова.
В 1909 году в семье Миклашевских родился первенец, названный в честь дедушки Миклашевского Михаилом, но он умер в младенчестве. 5 февраля 1910 года в Петербурге родилась дочь, названная в честь бабушки Бобринской Надей. Следующий малыш, родившийся в 1911 году и снова названный Михаилом, умер в младенчестве. В 1913 году еще одна попытка закончилась неудачно – новорожденный Алексей умер. И только сын Георгий, родившийся 25 марта 1915 года, выжил. Однако он был очень болезненный мальчиком, и мать решила подлечить его морским воздухом. Нижние две фотографии сделаны в Финляндии, на берегу Финского залива в 1916 г.

Слева направо: неизвестный, Екатерина Алексеевна Бобринская, дочь Надя, граф Гудович. Лето 1916 г.

Слева направо: неизвестный, граф Гудович, Екатерина Алексеевна Бобринская, дочь Надя.
Лето 1916 г.
К середине 1916 года мать (Екатерина Бобринская) оставила Санкт-Петербург и отправилась в Кисловодск на Кавказе, потому что влажный воздух Санкт-Петербурга был вреден для Георгия, которому тогда было приблизительно 18 месяцев, и его здоровье было очень слабым. Она возвратилась в Санкт-Петербург вместе с отцом в ноябре, но потом снова уехала в Кисловодск в начале декабря.
Молодая английская девушка, мисс Доу, которой тогда было 22 года, приехала в Кисловодск в начале октября в качестве английской гувернантки Нади. Она даже вела домашнее хозяйство, когда мать находилась в Санкт-Петербурге с 21 ноября до начала декабря. Тогда они возвратились в Санкт-Петербург для празднования Рождества. Мисс Доу, вернувшись в Англию, опубликовала воспоминания о России «Rosamond. E. Dowe. Memoirs of an English Governess in Russia. 1914-1917». От мисс Доу мы имеем описание тогдашней счастливой и беззаботной жизни в Кисловодске:
«В конце сентября 1916 г. я оставила Толстых и, прибыв через три дня в Кисловодск на Кавказе, взялась за воспитание маленькой шестилетней Нади Миклашевской, дочери армейского полковника, бывшего на фронте. Мать Нади и ее сестры были большими англофилами. Обычно они жили в кавалерийских казармах для женатых офицеров в Петрограде, в прекрасной квартире около Думы и некоторых садов, но поскольку их мальчик был слаб здоровьем, они ездили на юг, чтобы избежать влажной осени «Северной Венеции», куда мы возвратились после Рождества, когда выпал снег, и погода была солнечной, хотя и очень холодно.

Обложка книги воспоминаний Розамунды Доу
В Кисловодске было тепло и солнечно, и меблированная вилла была на холме выше курортного города. Мы каждый день гуляли в парке, что был выше нас, и видели, что снег укрыл горы на горизонте на уровне Эльбруса, самого высокого пика Кавказских гор. Я часто покупала белый виноград у бродячего торговца в парке за несколько копеек килограмм. У Нади было несколько книг Беатрис Поттер, которые давали мне материал для чтения примерно на полчаса ее ежедневного отдыха после обеда, пока я не выучила их наизусть, и когда пыталась менять слова, то Надя поправляла меня, поскольку знала их очень хорошо.
Затем Мадам (жена Миклашевского, графиня Екатерина Бобринская) возвратилась в Петроград и оставила меня ответственной за домашнее хозяйство. Все слуги знали свою работу, и моей единственной дополнительной задачей было каждый вечер брать интервью у шеф-повара, когда он приносил мне для проверки книгу меню на следующий день. Я не могла прочитать его письмо, но должна была притворяться, что могу. Спрашивала о каждом определенном блюде, и когда он объяснял, я говорила, что барышня (Надя) это не любит и предлагала альтернативу, которую она и я любили.
Две сестры Мадам были, как она, англофилами, так же как их мать, Графиня Бобринская, и все говорили на прекрасном английском языке, в том числе и их молодые дочери, которые также имели английских гувернанток. Моя одежда выглядела более русской, чем их, и я вынуждена была купить зимние пальто и костюмы в Самаре, тогда как эти три сестры всегда носили английские, пошитые на заказ костюмы и шляпы Reslau, купленные в английском магазине в Петрограде. Графиня всегда покупала английские вечерние платья для Нади, а мне поручали разрабатывать дизайн ее повседневных платьев.
После Рождества мы возвратились в Петроград. Зима к тому времени уже наступила. Снег обычно ложился в ноябре, лежал до конца марта, и для меня было странно не видеть на улицах никакого транспорта кроме трамваев. В городе, в парках снег был очень плотный.
Рельсы для поездов и фонарных столбов были проложены прямо по льду Невы около Литейного моста, и перед тем, как отправиться на ежедневные прогулки в близлежащие сады, мне приходилось натирать щеки и подбородок Нади гусиным жиром, чтобы она не обморозилась. Все обычно носили стеганое длинное пальто или меховое, меховую шапку и муфту, а также войлочные сапоги поверх обычной обуви, а также одевали более теплое нижнее белье, а все дома имели двойные стекла и центральное отопление, а двери тоже двойные».
4-е: В 14:00 я уехал в Петроград.
7-е: В 12.30 пополудни я достиг Царского Села.
9-е: Утром мы отправились в Петроград.
14-е: Я прибыл в Петроград после сообщения о болезни моего отца.
20-е: Полк начал движение.
28-е: (понедельник) Мой отец умер в 4:00.
10-е: Пасха.
11-е: Покинул Петроград.
8-е: Я получил разрешение на отпуск. Я достиг Клевани на санях, оттуда на машине в Ровно, где ночевал в отеле «Рим».
9-е: В 7.16 я оставил Ровно поездом. Ужасная давка, все вагоны переполнены.
12-е: В 5.30 пополудни я достиг Кисловодска. Погода прекрасная, днем весьма тепло.
21-е: В 7.30 пополудни я уехал с Катей в Петроград.
24-е: В 11.45 утра мы достигли Петрограда.
3-е: Оставил Петроград, чтобы возвратиться в полк, с Катей до Киева.
5-е: Выехал из Киева в 8.30.
Из воспоминаний мисс Доу :
«После Рождества 1916 г. мы вернулись в Петроград, где вскоре очереди за хлебом стали такими длинными, что они часто превышали запасы в магазинах, где я слышала недовольство и ворчание. Это была не шутка — стоять в очереди в метель, как когда-то я делала для тети. У семьи Миклашевских была служанка, которая проводила дни в очередях, и ей приходилось ходить через весь город, чтобы купить детям молока, но хотя наше меню стало менее разнообразным, наша семья никогда не терпела лишений. Мы жили совсем рядом с Думой, на Захарьевской, где тогда кипела жизнь, но так как я была занята ежедневно с 8.30 утра до 7.30 вечера маленьким ребенком, я ничего этого не видела. Кроме того, наша улица каждый день была заполнена войсками, проходившими муштру для подготовки к фронту.
Однажды вместо того, чтобы слышать ровный топот марширующих солдат на улице возле нашей квартиры, я услышала выстрелы и громкий ропот недовольных голосов и, выглянув из окна детской, увидела солдат, в беспорядке стреляющих в воздух! Надя весело играла, я вышла в коридор нашей квартиры, где увидела трех очень молодых офицеров, которые пользовались нашим телефоном и спрашивали инструкции, как справиться с солдатами, которые отказались подчиняться их приказам. Они выглядели такими встревоженными, что мне стало их очень жаль. Это было началом революции в 1917 году. Я не могла выводить Надю на прогулки и чувствовала себя очень неловко из-за того, что будет дальше. С крыш домов полиция открыла стрельбу из пулеметов, чтобы разогнать толпу, собравшуюся на улицах. Армии было приказано стрелять по людям, но она отказалась. Полицию ненавидели, поэтому разъяренные толпы поджигали полицейские участки; пожарные бригады не смогли их потушить, и вскоре здания превратились в почерневшие скелеты с длинными сосульками, свисающими с карнизов, с зияющими оконными рамами и дверными проемами. Было страшно видеть, как толпы людей бегут на улице, когда по ним стреляли пулеметы, как падали раненые, а вытекающая кровь окрашивала снег.
Когда все, казалось, успокоилось, и я освободилась, я накинула на голову шаль, как крестьянка, и смешалась с толпой, чтобы почувствовать, что происходит. Керенский был избран на пост командующего. Император вернулся с фронта, присоединился к своей семье в Царском Селе и отрекся от престола в пользу своего сына, 12-летнего Алексея. Дума была распущена, набрано ополчение, полиция собрана и отправлена на фронт (народ называл их «фараонами»). Однажды я услышала шум в нашем зале, пошла посмотреть, в чем дело, и обнаружила, что двое солдат раздевают кого-то, кого я приняла за женщину, но это был полицейский в целой куче нижних юбок! Солдаты встречали поезда с фронта и отбирали оружие у офицеров. Однажды я увидела простого парня с двумя шашками, по одной на каждом плече, ведущего рядом с собой жалкого запуганного полицейского. Кто-то из толпы крикнул: «Отрубить ему голову», и мне стало дурно от этой мысли, но, к счастью, мальчик сдержался и просто ухмыльнулся. Ополчение состояло в основном из студентов, они захватили машины и разъезжали на них, причем снаружи на обеих подножках тоже были люди. Они беспорядочно стреляли из винтовок, что казалось очень опасным, но выглядели они достаточно счастливыми.
Когда через несколько недель стрельба стихла, и трамваи снова начали ходить, то люди забирались в них и цеплялись снаружи, как гроздь винограда или рой пчел. В России нужно было заходить сзади, проходить через вагон и выходить спереди, заплатив кондуктору, когда вы его увидите. Из-за толпы это часто было совершенно невозможно, но никто не возражал. Однажды, оценивая, как я могу войти в переполненный трамвай, два крепких русских солдата, стоявших на ступеньке, пригласили меня присоединиться к ним, и каждый обнял меня, чтобы поддержать, так что я чувствовала себя в достаточной безопасности и была рада поездке, поскольку мне еще предстояло пройти некоторое расстояние. Когда я сошла и поблагодарила их, я отдала им деньги за проезд и попросила передать их кондуктору, когда они его увидят. «О, не беспокойтесь», - сказал один, - «вам не нужно платить, теперь у нас свобода». «О, нет», — сказала я, - «я англичанка, мы в Англии свободны, но все равно платим за проезд в автобусах и трамваях». Что касается трамваев, то многие люди, которые не могли попасть вовнутрь, ехали наверху или на буферах, и было много аварий.
Затем была колоссальная работа по захоронению всех жертв, которые произошли на улицах. Было очень холодно, так что земля все еще была промерзшей на глубину пяти или шести футов, поэтому было решено взорвать огромные братские могилы на открытом месте под названием Марсово поле, и в один прекрасный день образовалась очень длинная процессия солдат, несущих гробы, покрытые алой тканью, по улицам к этому месту. Все эти гробы были закрыты, что противоречило русскому обычаю оставлять крышки открытыми до момента перед захоронением.
После этих публичных похорон все немного успокоилось, и стрельбы больше не было. Люди казались счастливее и гораздо более беззаботными. Я видела, как сани, нагруженные мешками муки, везли в пекарни, которые, как говорили люди, хранились в церковных склепах, но, конечно, у меня не было возможности проверить истинность этого слуха. Временное правительство во главе с Керенским пыталось навести порядок в хаосе, но было так много интриг и неразберихи в ведении войны — солдаты дезертировали, офицеры потеряли контроль над своими людьми, не хватало боеприпасов.
Итак, зима прошла, наступила весна. Пасха, которая в 1917 году выпала на 17 апреля, является величайшим русским праздником, и мы устроили вечеринку для Нади, чтобы покрасить яйца, а не искать спрятанные, как это принято у нас. Повару было приказано сварить вкрутую несколько дюжин, но когда мы и гости-дети начали их красить, одно разбилось, и я обнаружила, что они не были сварены, поэтому я позвал дворецкого, чтобы он вынес их, чтобы сварить вкрутую. Детям понравилась эта работа, и они забрали домой то, что сделали для пасхального стола.
В православных церквях с 10 часов утра и в течение трех часов проводится долгая впечатляющая служба, когда человек стоит, держа зажженную свечу, пока скрытый хор прекрасно поет, без сопровождения какого-либо органа или инструмента, а местами перемежается сольными песнями, которые поют священник и дьякон (оба с распущенными до плеч волосами). Всего за полчаса до полуночи гроб выносят из церкви на плечах мужчин и обносят вокруг здания три раза, а затем вносят и показывают пустым, как раз в полночь, когда священник поет вслух «Христос воскресе» и целует помощника священника или дьякона три раза в разные щеки, и ему отвечают «Воистину воскресе». Затем каждый в общине поворачивается к своему соседу, так как все стоят (в православной церкви нет мест), и делает то же самое, салютуя и целуя. Затем после еще одного пения служба заканчивается. Возле церкви выстроилась очередь крестьян, каждый из которых нес тарелку или блюдо с пасхой, кулечком и тремя крашеными яйцами; все ждали, когда священник благословит их кропилом, опущенным в чашу со святой водой.
После семи недель так называемого Великого поста на столе появляется множество холодных закусок, большое количество разноцветных сваренных вкрутую яиц, пасха в форме обелиска из творога и сливок с несколькими изюминами, приправленная ванилью с буквами X.В. сбоку, что означает «Христос воскрес», обычное приветствие в день Пасхи, и кулич, который является очень простым пирогом с изюмом. Затем мы вернулись домой около часа дня на эту прекрасную трапезу, перед которой каждый человек взял крашеное яйцо с центрального блюда и приветствовал другого пасхальным приветствием и тремя поцелуями. Каждой из девочек подарили маленькие яйца из серебра, золота, эмали или драгоценных камней, которые они добавили к цепочке из них с прошлых лет. Некоторые из них были изысканными, особенно те, которые были сделаны для императорской семьи знаменитым Фаберже».
26-е: Добрался до Петрограда в 5:00. В городе беспорядки.
27-е: Начался кошмар. Вспыхнуло восстание в батальоне Преображенского полка. На улицах стрельба, красные флаги. Наш автомобиль не выезжал.
28-е: Офицеры вынуждены сдавать оружие на улице. Частные дома разворованы. Революция достигает кульминации. Я не могу описать свои чувства. Полная анархия в армии. Я не выходил.
1-е: Я нахожусь в кратком отпуске в Петрограде. Я получил телеграмму от Хана Нахичеванского с поздравлениями по случаю моего назначения командиром Уланского полка Ее Величества Императрицы Александры Федоровны, и вторую от генерала Абалешева, командующего 2-й Кавалерийской дивизией, с приказом мне принять командование как можно скорее.
2-е: Я отправился без оружия на митинг Армии и Флота на Литейный, где по распоряжению Временного Правительства офицеры должны были получать пропуск на право пребывания или права отъезда в армию. Вся огромная зала была полностью заполнена офицерами, представляющими все виды оружия. Очередь была бесконечна. Я ждал приблизительно два часа, пока не получил разрешение отбыть на фронт. Почти никто из солдат на улицах не отдает честь офицерам. Я решил отправиться завтра с Ливеном и Кантакузеном. Царь отрекся от трона. Ливену и Кантакузену задержали отъезд до 3-го. Я тоже так сделал.
3-е: Попрощался с матерью. Хотя солдаты офицеров не приветствуют, они не агрессивны. Мои нервы в ужасном, неописуемом состоянии. Я страдаю. Все наши офицеры (Кавалергардский полк), кто был в Петрограде, обращались ко мне. Я советовал им всем возвращаться в полк как можно скорее. Многие офицеры ходят по улицам с красным бантом, я такой не надевал.
4-е: Каким-то чудом я не был арестован, никто не отобрал у меня оружие, никакого обыска в моей квартире не было. Я уехал поездом в 5.50 дня. Неожиданно я получил место на станции, поскольку какой-то генерал продал мне свою бронь. Группа солдат-провокаторов была в поезде. На каждой станции они проводили митинги и говорили от имени представителей рабочих и солдат.
22-е: С 12 июля все отпуска запрещены. Это грустно, поскольку я рассчитывал на встречу с Катей в Киеве 1 июля.
21-е: Днем я намереваюсь пойти в штаб дивизии. Вчера я продал Ксанфа Арсеньеву за 1 200 рублей. Днем пошел в штаб дивизии. Маслов ничего не знает о переменах; он посоветовал мне продолжить отпуск. Я решил уехать завтра.
22-е: Около 9:00 я уехал в отпуск на бричке на станцию Сочоволия. Здесь никто не мог мне сказать, когда прибудет поезд. Я ждал. Поезд прибыл после 21:00, грузовой поезд.
23-е: Я достиг Шепетовки около 4:00. После 8:00 я пошел в штаб Кавалергардского полка, который расположен здесь. Я встретил нового командующего, князя Елецкого. Поехал дальше. В Фастове я сменил вечерний поезд на прямой автомобиль на Кавказ. Я был в маленьком купе с Иваном Орловым, который был очень приятен.
25-е: Мы прибыли в Кисловодск около 3:00. С трудом попал на дачу моей семьи; разбудил всех, кроме сторожа.
26-е: Идет дождь; сыро и грязно. Много друзей. Довольно паническое общее настроение. Слухи о погромах.
27-е: Хорошая погода. Можно расслабиться, потому что никто здесь почти никогда не видит "товарищей". Ходит слух о наступлении Корнилова. Всех очень волнует невероятное число абсурдных слухов.
31-е: В эти дни все беседы о Корнилове. В Кисловодске настроения оптимистические! Каждый хочет, чтобы заговор Корнилова удался, и не теряет надежду, несмотря на противоречащие свидетельства.
1-е: Вечером я получил телеграмму о вызове обратно в полк. Это невыносимо!
3-е: Я уехал в 12 полудня.
17-е: Я получил разрешение уехать в увольнение, но 19-го я должен остановиться в штабе Корпуса.
18-е: В 14:00 я выехал на телеге в деревню Мокрец, где я провел ночь. Хороший дом арендатора Сангушки, очень дружелюбного.
19-е: Я уехал в 9.30 утра и достиг штаба дивизии в деревне Клембовка приблизительно в 11.30 утра. Ночь провел в штабном вагоне по дороге к станции Пузырки, где я ждал поезда до 12.30.
21-е: Я прибыл в Киев около 8:00.
…Отец в октябре получил отпуск, чтобы посетить свою семью в Кисловодске, где он присоединился к ней. Он не возвратился в армию, поскольку вся структура российской армии развалилась. Отец оставался в Кисловодске до сентября 1918 года. Мать возвратилась в Кисловодск в июне и не возвращалась больше в Санкт-Петербург. Она сняла дом на улице Российская, 35. Жизнь была спокойна до большевистского переворота октября 1917 года, и даже до 1918 года не было заметно ухудшения положения. Вот как Майкл Игнатьефф описывает Кисловодск того времени:
«Небольшой курортный город Кисловодск расположился в предгорьях Южного Кавказа между Каспийским и Черным морями. Там была миниатюрная железнодорожная станция, выкрашенная в синий и белый цвета, круглый концертный зал и россыпь домов отдыха, вилл и отелей, сгруппированных вокруг минеральных нарзанных источников, известных по всей России своим восстанавливающим эффектом на больную печень и пищеварение. Лето 1917 года было не похоже на другие лета. Кисловодск был лихорадочным, пылающим, как туберкулезный больной. Нефтяные бароны с русских нефтяных месторождений в Баку в 200 милях к юго-западу мчались в своих экипажах по бульварам, обсаженных тополями, их пьяные кавказские охранники стреляли из револьверов в воздух. Гранд-отель был переполнен ранеными офицерами, потягивавшими нарзанную воду и проходившими электротерапию у светских врачей. Вверх и вниз по покрытым решетками дорожкам Виноградной аллеи, главной набережной города, прогуливающиеся офицеры и их дамы делали вид, что они не беженцы, а на отдыхе. В то время еды было в изобилии. Сады и пшеничные поля Южного Кавказа были богаты и обильны. Новости о нехватке продовольствия, грабительских бандах дезертиров и забитых железных дорогах дальше на север достигали Кисловодска, как будто с далекой планеты»
Это был, вероятно, один из самых трудных периодов в жизни моей матери, особенно период с сентября 1918 до 20 января 1919, когда она жила под режимом большевистского террора с двумя маленькими детьми и отделилась от моего отца.
С другой стороны, появилось много новых друзей в те трудные времена, а старые дружбы стали более крепкими в условиях испытаний. Многие из этих связей продолжались последующие годы в эмиграции.
Одной из них была связь с семьей генерала Врангеля, которая позволила Наде чувствовать себя как дома в русском обществе в Си Клиффе (Sea Cliff), штат Нью-Йорк, когда они поселились там в 1950 году. Генерал Врангель умер в Брюсселе в 1928 году, но его жена и дети переехали в США и там оказали нам большую поддержку. Семья подружилась также с Майклом Хартманом, отец которого был с моим отцом в Баталпашинске, в то время как их жены оставались в Кисловодске. Хартман и его жена Мика стали близкими друзьями Нади в Си Клиффе.
Наконец, семьи Бурсак и Щербатовых, особенно Кира Бурсак, позже Blackwood, которая была близким другом моей матери и в Кисловодске, и позже в Ницце, и чей сын Владимир Бурсак (прозвище Фошка) был одного возраста с Георгием, а дочь Киры Блэквуд была моей ровесницей. Они и Щербатовы продолжали быть богатыми на Ривьере благодаря наследству Хьюза. Кира Блэквуд и княгиня Галя Щербатова были сестрами, урожденными Хьюз, и их семья владела большей частью огромных угольных шахт в Донецком бассейне в восточной Украине, которые были потеряны во время революции, но, как международные промышленники, они все еще имели весьма существенные активы в Англии.
Они обеспечили Георгию и мне прекрасное знакомство с английской культурой и оказали большую помощь в нашей будущей карьере, особенно моей. В 1949 году Владимир Бурсак был секретарем IATA Traffic Conference No. 2 (конференция Международной ассоциации воздушного транспорта IATA) в Париже и нанял меня в IATA в то время, когда во Франции было очень трудно найти работу, а позже, отчасти из-за моего английского аристократического акцента, это открыло для меня судьбоносную возможность переехать в Монреаль в 1954 году и начать там карьеру финансового аналитика.
По этим причинам я включил сюда несколько подробностей о Кире Блэквуд и Гале Щербатовой в Кисловодске, а также некоторые выдержки из книги Луизы Патен (Louise Patin) о жизни в 1918 году. Могу добавить, что дети Щербатовых, Мишель и Галя, были одними из моих лучших друзей-подростков, и мне очень нравилось, когда меня приглашали на вечеринки на их роскошную виллу «Александра» в Каннах, где я оставался на ночь.

Воспоминания Луизы Патен
«14 января 1918 года. Иностранцы теперь настоящие пленники в России. Транспортные компании больше не принимают русские деньги, а у большинства иностранцев нет других денег. Поставки дорожают с каждым днем. Сегодня один старый армянин запросил 60 франков за ремонт резиновой подошвы на ботинке, мелочь, но теперь все так.
В Петрограде происходят массовые убийства. Здесь каждую ночь в частных домах происходят вооруженные нападения, и, как я слышала, кто-то сказал, на это обращают не больше внимания, чем на пение птиц. Каждый вечер мы думаем: не наступит ли наша очередь сегодня ночью?
21 января. Солдаты и казаки теперь объединились против кавказских горцев. Кажется, последние всегда жили в хороших отношениях с казаками.
22 января. Город полон пьяных солдат, которые врываются в частные дома для «обыска» без всяких ордеров на обыск, просто пользуясь правом сильного. В связи с этим я открыла черту русского характера: в аристократических семьях почти все дети говорят об этих поисках и как будто ждут их, как чего-то забавного: никакого возмущения, одно любопытство. А между тем условия, которые ставят бывшим офицерам их солдаты, просто ужасны, особенно для бедных. На соседней с нашей улице живет выгнанный солдатами гвардейский офицер; он занимает с семьей жалкую каморку и живет починкой обуви.
4 февраля. Нет сомнений, что русская революция, как и наша французская революция, есть дело рук масонов и была подготовлена в ложах. Огромная роль, которую сыграли евреи в настоящем событии, выбор эмблем, используемых большевиками для украшения своих красных флагов, отрицание всякой религии и преследование священников — все это многочисленные доказательства деятельности масонов в этой несчастной стране.
8 февраля. Теперь бесполезно ждать почтальона, их больше нет. Никакой почты, никаких новостей, ничего, кроме двухнедельных русских газет, привезенных сюда путешественниками.
13 февраля. Бесконечные очереди стоят перед банками; дворяне, бывшие министры, генералы, светские дамы общаются с богатыми промышленниками. Все, кто когда-то принадлежал к высшему обществу, теперь толпятся, чтобы получить 50 или 100 рублей, которые банк соблаговолит выдать им из миллионов, которые большинство из них доверили этим банкам. Солдаты, уличные мальчишки насмехаются над ними: «Эх вы, господа, теперь ваша очередь встать в очередь».
19 февраля. Теперь сюда прибыли красногвардейцы. На всех стенах расклеены листовки, в которых все офицеры, носящие эполеты, подлежат аресту (революционный комитет), поскольку эти знаки отличия отныне запрещены. Под этим предлогом в Киеве было убито 18 000 офицеров. Там тоже в листовках на стенах указывалось, что офицеры должны предоставить свои документы Совету и, когда они прибыли, все были уничтожены их собственным оружием.
13 апреля. Нехватка денег вынуждает бедных гвардейских офицеров соглашаться на самую черную работу. Они нанимаются за 10 рублей в день пахать огороды и ухаживать за коровами. Многие стали сапожниками. Я знаю генерала, бывшего командира Лейб-гвардии Гусарского полка, который теперь шьет обувь для своей семьи и своих друзей.
14 июня. Сегодня утром я проснулась, услышав ожесточенную пулеметную стрельбу. Казаки и горцы атаковали большевиков, которые засели в своих штабах в прежней больнице на Тополевой Аллее и Нарзанной галерее.
Перестрелка длилась весь день, и выстрелы артиллерии слышались в течение ночи до 9:00, когда большевики отбили обратно город и выгнали казаков. Это было первый раз, когда Шкуро вошел в Кисловодск. Он приехал, чтобы забрать свою жену, но не был достаточно силен, чтобы захватить город.
16 июня. Вчера был ужасный день. Большевики были единоличными хозяевами в городе и устроили репрессии. Каждый выстрел, который мы слышали, каждый винтовочный залп, разрывающий воздух, говорил об окончании чьей-то человеческой жизни. Затем я встретилась с родителями молодой княжны Гали Щербатовой (из английской семьи, она была женой Михаила, младшего брата моего работодателя), и они рассказали мне о драматическом приключении, героями которого были эти молодожены. Вчера в 8 утра несколько вооруженных людей пришли арестовать князя Михаила и отвезти его в Нарзанную галерею на расстрел. Его перепуганная молодая жена бросилась перед ними и сказала солдатам, что разделит его судьбу. Их повели в Нарзанную галерею, где они увидели ужасную картину: трупы только что расстрелянных людей покрывали пол, идти приходилось по крови, которая стекала даже по стенам, солдаты и пленные казаки кидались друг на друга, те, у кого есть оружие, стреляли в них или рубили своими саблями. Мужество двадцатилетней женщины не покинуло ее, и она крикнула командиру Красной гвардии, что ее муж невиновен и был арестован по ошибке. Одновременно ее родители связались с Советом (я думаю, что их большое состояние было важной помощью в то время). Председатель городского комитета согласился поговорить с главой Совета, который приказал, чтобы пару привели к нему.
Теперь перед домом Совета на Тополевой улице течет настоящий поток крови, и именно туда отвозят арестованных. После долгих дебатов председатель приказал их освободить. Сейчас 5 часов вечера.
19 июня. Почти в каждом доме были проведены обыски. Все военное снаряжение, нижнее белье, простыни, обувь, очки, садовые инструменты - все было изъято. У молодого офицера, которого мы знаем, не было ничего, кроме формы, из одежды остались только трусы и халат. Князь прислал ему рубашку и старые брюки. Поскольку в городе введено военное положение, выходить на улицу после 8 часов вечера запрещено, и мы проводим вечера в саду. Мы в числе счастливчиков, в нашем саду есть тенистые аллеи со скамейками, и он похож на парк в миниатюре, где можно в полной мере насладиться очарованием прекрасных июньских вечеров.
1 июля. Вчера юная княжна Гали Щербатова рассказала мне, что случилось с ее сестрой, муж которой был предводителем дворянства в Екатеринодаре. Большевики только что арестовали его, и, когда банда солдат уводила его на расстрел, другая банда ворвалась в дом, ломая мебель, и искала его жену, чтобы расстрелять ее вместе с мужем. Бедная женщина пропала бы, если бы не сообразительность старой девы, которая накинула ей на плечи шаль, повязала на голову платок, завязала на поясе фартук и дала свои собственные очки. Одетая в это платье, она смешалась с другими слугами и наблюдала, как грабят ее собственный дом. Дрожа всем телом и полумертвая от страха, она услышала ужасный спор между большевиками и няней ее детей. Солдаты хотели схватить бедных малышей, мальчика в возрасте 3 лет и девочку в возрасте 2 лет, и поместить их в пролетарский детский дом. Медсестра героически защищала их, сказав, что никому их не отдаст, и, поскольку у них больше нет родителей, она будет растить их сама. Она говорила так убедительно, что спасла детей. В это время мать наливала солдатам напитки, стараясь, чтобы они не заметили, как дрожат у нее руки. Ценой огромных усилий ей удалось сбежать в тот же вечер, все еще переодетой, как была, и ее увез крестьянин на своей телеге. Так она воссоединилась со своими родителями, чтобы дождаться того времени, когда сможет вернуться к своим детям. Они забили ее мужа прикладами ружей еще до того, как добрались до места, где его должны были расстрелять.
6 августа. Моя подруга-француженка, старая мадам Удин, рассказала, как живут те, кто раньше был беден. Она пошла навестить своего молочника и увидела, что в 7 часов утра семья сидит за столом, накрытым белой салфеткой. Они ели яйца, холодный ростбиф, помидоры, белый хлеб с маслом и пили чай с сахаром. Бедная старая француженка, которая два месяца голодала, не могла поверить своим глазам.
1 октября. В августе и сентябре город дважды переходил от белых к красным, которые теперь снова стали нашими хозяевами. Я была свидетелем эпизодов паники, когда толпы людей, принадлежащих к Белому движению, спасались бегством; женщины, дети, старики, бегущие и толкающие друг друга, исчезали в длинных очередях далеко между горами. Они бежали навстречу неизвестности - нападениям кавказских разбойников, голоду, ледяным ночам, изнурительным походам - и все это, возможно, для того, чтобы оказаться в деревне, населенной красными, которых в этих краях было довольно много.
Вечером после первой тревоги белым удалось отбить атаку красных, и беглецы, которые все еще находились недалеко от Кисловодска, смогли вернуться. Вернулась уверенность, и все выглядело довольно спокойным, когда произошло новое и ужасное нападение большевиков; они окружили город железным кольцом. С 8 часов утра до 14 часов дня винтовочная стрельба не утихала и сопровождалась грохотом артиллерии и треском пулеметов. В конце концов, красные одержали победу, и белые обратились в бегство».
(Это было, вероятно, временем, когда отец оставил Кисловодск со Шкуро. Мать не уезжала, вероятно, потому что путешествие по этим диким горным перевалам с двумя маленькими детьми выглядело слишком опасным. Затем Луиза Патен описывает, как была разграблена ее собственная резиденция, а принцессе Гали пришлось отдать свои кольца под угрозой, что в противном случае ей отрежут пальцы. Самой Патен пришлось отдать все свои деньги и раздеться для личного досмотра, но, к счастью, они не нашли того, что она прятала в чулках).
«Были развешены новые листовки, привлекающие множество читателей; они призывали пролетариев убивать священников, офицеров, дворян - всех врагов революции. Не очень обнадеживающий факт: семьи большевиков уезжают в большом количестве, и когда они уедут, останутся только солдаты и "буржуи", и что будет тогда? - Да хранит нас Бог! Эти постоянные обыски дома выводят из себя, у нас создается впечатление, что нам больше ничего не принадлежит. Ключи приходится оставлять на мебели. Если человек уходит ненадолго, он никогда не уверен, что по возвращении не найдет пустой дом. Такое случалось со многими людьми. Город представляет собой мрачное зрелище, большинство жителей ушли с белыми, почти все богатые дома забиты больными или ранеными солдатами. Лекарств больше нет, аптеки пусты или закрыты. Больные умирают в огромном количестве.
26 октября. Красные торжества по случаю годовщины революции уже прошли. Большевики используют эту возможность, чтобы увеличить грабежи. К Шидловским солдаты ворвались в дом около 22:00, чтобы заставить господина и госпожу Шидловских отдать все деньги, они пытали их и искололи вилками. Они оба в ужасном состоянии».
(Надя рассказывала мне, что Шидловские жили на верхнем этаже нашей виллы, и как мы были напуганы, когда их грабили, но в тот день они оставили нас в покое. Я помню, как она сказала мне, что наша няня забрала все наши вещи, а потом стояла перед своей дверью и кричала солдатам, что там только ее собственные вещи, и они не зашли).
«6 ноября. Красные обложили налогом все товары, в результате чего все продукты исчезли, а магазины закрылись. Больше нет никакого белого хлеба, молока, масла или фруктов. Пекарни остались открытыми, и людям приходится стоять в очередях по 4-5 часов, чтобы получить полфунта почти несъедобного черного хлеба, который советские власти соизволяют нам продавать. Кира Альбертовна, сестра принцессы Гали, уехала сегодня вечером, переодевшись крестьянкой, в телеге с картошкой. Один мужчина потребовал с нее крупную сумму денег за то, чтобы он вывез ее из города, и она отправилась в Екатеринодар, который сейчас удерживают белые, где она надеется найти своих детей.
28 декабря. Кира Альбертовна добралась до Екатеринодара, где обнаружила своих детей в добром здравии. Медсестра вышла замуж за генерала, который защищал семью Бурсак».
(Я передал все отрывки Патен, касающиеся Киры Блэквуд и Гали Щербатовой. Моя мама, должно быть, стала большой подругой Киры в Кисловодске и Ницце. Мне было велено обращаться к ней «тетя Кира»).
Екатерине Бобринской). 1918-1919 гг.
… Я глубоко обеспокоен, потому что до сих пор не получал от вас никаких известий. Хартман уже получил кучу писем от своего друга. Более того, я очень обеспокоен паникой, которая, по-видимому, произошла в Кисловодске вскоре после моего отъезда оттуда, и я надеюсь, что вы пережили ее. Мы живем здесь очень хорошо… За все годы моей службы я никогда не служил в штабе и сейчас не могу привыкнуть к мысли, что я больше не служу в боевом подразделении, и мне кажется странным, что у меня только кабинетная работа. Несмотря на все это, человек действительно испытывает чувство оживления, возвращаясь к своей хорошо знакомой рутине.
Меня продолжают удивлять относительно низкие цены. Представляете, десять отличных яблок, которых даже в Кисловодске не найдешь, стоят здесь всего один рубль. Вы знаете, как отправлять мне письма? Отнесите их в штаб-квартиру нашего филиала, которая, как я слышал, переехала из гостиницы "Московская" в "Нарзан I", и там передайте их Гоге, который отправит их, когда у него будет возможность.
С нетерпением жду вашего письма, чтобы узнать, как вы живете и что происходит в Кисловодске, откуда в последнее время поступало очень мало новостей. Здесь сейчас собралось некоторое количество беженцев из Кисловодска, которые ждут возможности отправиться дальше. Но пока Невинномысская не взята, это практически невозможно сделать.
Я пишу вам из совершенно неожиданного места и при совершенно неожиданных обстоятельствах. Если вы получили мою телеграмму, то уже знаете, что по прибытии в Минеральные Воды я представился Врангелю, который немедленно назначил меня офицером, исполняющим обязанности генерала для особых поручений. Мне выделили целое купе первого класса в штабном вагоне, где я отлично выспался, а на следующий день мы отправились в Прохладную на встречу с Ляховым, где я получил важное задание.
Вы знаете о стратегическом значении Грозного. И Деникин теперь озабочен тем, чтобы Грозный был занят частями Добровольческой армии до того, как его захватят англичане, которые тоже положили глаз на этот лакомый кусочек. Никто в штаб-квартире точно не знал, где находятся англичане и находятся ли они близко к Грозному или далеко от него. Врангель решил послать меня туда с отрядом, чтобы временно взять там власть в свои руки и вести переговоры с англичанами, если они появятся, но не дать им занять город с самого начала. Задание было трудным, но интересным. На выезде из Прохладной мне пришлось догонять отряд Покровского, который ушел далеко вперед. Я начал свое путешествие в поезде княгини Урусовой, который двигался в том же направлении. Войска продвигались так быстро, что не было времени наладить связь по железной дороге, и поезда отправлялись без телеграфной связи, по одноколейному пути с одним локомотивом, идущим впереди с предупреждением о том, что поезд находится в пути. Последний отрезок пути я проделал на бронепоезде, который вечером доставил меня на станцию в станицу Мекенскую, которую враг покинул только днем того же дня.
Железнодорожные станции на пути представляли собой ужасное зрелище: все они были завалены телами красноармейцев, больных сыпным тифом. Умирающие лежали между трупами и не получали помощи. На станции Мекенская мне сказали, что штаб Покровского находится в соседней станице, которая находилась примерно в трех верстах от станции, и я отправился туда пешком. Мне было предложено продолжить продвижение с этим отрядом до Грозного и, заняв его, взять на себя функции главнокомандующего городом и прилегающим к нему нефтедобывающим районом. В первый день нам не удалось взять Грозный. Товарищи окопались вокруг города и упорно сопротивлялись. Но ночью по какой-то причине Красная Армия оставила город, а на следующий день мы заняли его без боя. Вы не можете себе представить, с каким энтузиазмом нас встретили: толпы людей следовали за нашими войсками, произносились речи, они кричали «ура!». В тот же день я приступил к своим обязанностям управляющего городом, и мои приказы были расклеены на улицах. На меня свалилось решение очень и очень сложной задачи.
2 февраля. Повод отправить вам письмо, начатое 26 января, представился сегодня неожиданно. Вот уже две недели я являюсь «королем» Грозного и надеюсь, что скоро меня освободят, потому что для продолжения управления городом необходимо решить множество очень сложных проблем, а они мне совершенно не по силам, поскольку у меня совершенно нет никакого административного опыта.
Похоже, я теперь прочно застрял в Грозном. Несмотря на мои неоднократные просьбы уволить меня и заменить более опытным человеком, они меня не отпускают. Вы не можете себе представить, насколько трудное у меня положение: я должен воссоздать целый ряд ликвидированных институтов из ничего. У меня нет денег и вообще нет доступных кредитов, нет людей. Целый день меня донимают сложнейшими проблемами, которые я совершенно не в состоянии решить, поскольку не имею никакого опыта в управлении и мне не у кого спросить совета. У меня нет офиса, нет опытных помощников, кроме одного старого казачьего полковника, который служит у меня начальником несуществующего офиса. В городе бушует страшная эпидемия брюшного тифа, и бороться с ней практически невозможно, потому что нет ни лекарств, ни медицинского персонала, ни продуктов питания. Больные голодают и содержатся в ужасном состоянии, они просто лежат на земле, даже без соломы. Грозный - одно из самых сложных для управления мест на всем Северном Кавказе по следующим причинам: именно здесь сталкиваются друг с другом совершенно разные потребности казаков, горцев, горожан и огромной армии рабочих. И вот в какие обстоятельства забросила меня судьба! Я бьюсь, как рыба, вытащенная из воды, и чувствую, что не справляюсь со своей задачей! Вдобавок ко всему, нигде я не видел таких сумасшедших цен, как здесь. Фунт черного хлеба стоит 6 рублей, 25 сигарет - 15 рублей, коробок спичек - 4 рубля, и так же на все остальное. 15-го ожидается приезд Ляхова, и я снова буду просить его освободить меня от поручения, которое я не могу выполнить.
Я ужасно боюсь, что мне, возможно, придется остаться здесь до тех пор, пока штаб армии не покинет Кисловодск, и тогда одному богу известно, когда я снова увижу вас.
Я все еще страдаю здесь, в кошмарной обстановке, и постоянно прошу освободить меня от выполнения задания, выполнить которое не в моих силах. Не следует ставить людей в подобное положение. Все учреждения города ежедневно осаждают меня просьбами о деньгах, и я не могу удовлетворить их, поскольку не получаю никаких авансов. Ничего не делается для обеспечения города продуктами питания и хлебом. Голодают не только госпитали, но и все население города, а цены растут с каждым днем из-за нехватки продовольствия. Таким образом, фунт белого хлеба подорожал до 15 рублей, и даже по этой цене его трудно найти. Постоянные просьбы о деньгах со стороны изголодавшегося персонала и поставщиков довели главного врача, который руководит всеми больницами, до такого состояния, что он упал в обморок, когда пришел ко мне на прием. В довершение всего: после нашего неудачного рейда в Чечню с целью захвата окопавшихся там большевиков мы оказались в состоянии войны с чеченцами, и из-за этого даже небольшой поток продовольствия, который начал поступать из Чечни, теперь прекратился. Я не могу себе представить, чем все это закончится. В настоящее время ситуация катастрофическая. Я каждый день посылаю телеграммы Ляхову, но не получаю ответов.
Мне грустно... Я отправил вам такое мрачное письмо, но сам я нахожусь в таком состоянии духа, что не могу говорить ни о чем, кроме проблем, которые меня беспокоят.
У меня есть всего пара минут, чтобы написать несколько слов. Один очень любезный господин сейчас уезжает в Кисловодск и заехал сюда, чтобы забрать это письмо. Я в добром здравии и, вероятно, скоро приеду в Кисловодск, потому что со дня на день сюда должен прибыть губернатор, чтобы сменить меня.
… А теперь я очень прошу вас, не приезжайте сюда, во-первых, потому, что в конце концов им придется меня заменить, и тогда наши пути могут пересечься. В любом случае, когда я передам свои обязанности, я заеду в Кисловодск на неделю по пути в Ростов. Я очень сожалею, что не догадался раньше попросить вас прислать мне оставшиеся вещи при первой же возможности. Я прожил здесь почти два месяца с одной парой ботинок, которые скоро перестанут служить, и с двумя рубашками. Но теперь уже слишком поздно отправлять эти вещи, по крайней мере, я на это надеюсь!
Теперь я не только губернатор города, но и командующий гарнизоном.
10 апреля я благополучно добрался до Ростова. Жизнь в Ростове кипучая, с большим оживлением, с множеством магазинов, в которых можно найти все, но все они очень дорогие. Однако здесь нет никаких развлечений. Раньше их было много, но недавно Круг счел необходимым запретить абсолютно все, даже синематограф.
Напишите мне, как вы устроились в Екатеринодаре, наверняка очень плохо. Что собирается делать Хопи*? Вы, конечно, пробудете в Екатеринодаре дольше, чем ожидали, но я все равно адресую это письмо в Кисловодск. Здесь, в штаб-квартире, меня ждал очень приятный сюрприз: я получил много денег, свою зарплату за два месяца, некоторые премиальные, ежедневные расходы и т.д. Пешков пока не появился с лошадью.
*Теща Ильи Михайловича, графиня Надежда Александровна Бобринская, урожд. Половцова (1883-1920). Во время Русско-японской войны графиня Бобринская работала в Красном Кресте и была отмечена наградой. После смерти отца унаследовала имение San-Roman в окрестностях Монте-Карло. В 1914 году с началом первой мировой войны заведовала отделом воинского благотворительного общества Белого Креста. В 1919 году проживала в Екатеринодаре. С целью ознакомления с условиями тыловой жизни и положением Армии выехала с двумя или тремя медсёстрами в Гурьев. Оттуда в январе-марте 1920 года вместе с остатками частей Уральской армии была вынуждена совершить тяжелейший переход вдоль восточного побережья Каспия в Форт-Александровский для эвакуации на Северный Кавказ. Первую половину пути прошла с отрядом Б. К. Фортунатова, отстав, присоединилась к генерал-лейтенанту В. С. Толстову. По прибытии на место заболела и 20 марта 1920 года скончалась.
Спасибо вам за письмо из Екатеринодара. Как хорошо, что Хопи привезла вам вещи из-за границы; мне всегда было очень больно видеть, в какие лохмотья вы были одеты, и не иметь возможности чем-либо помочь. Недавно я отправил вам письмо в Кисловодск по почте, будет интересно посмотреть, как скоро вы его получите.
Я ем здесь в штабной столовой, где нас неплохо кормят и даже иногда дают мороженое. Цены там относительно низкие: обед и ужин всего по 8 рублей в день.
Я посылаю вам 85 рублей вашими кисловодскими деньгами, которые здесь совершенно недействительны и даже не принимаются к обмену Государственным банком. Я не смог отправить вам письмо с Остен-Сакеном, потому что, когда я увидел его утром, он не был уверен, поедет ли в Кисловодск, а потом уехал, не дав мне знать.
Скоро годовщина нашей свадьбы, о которой я не хочу забывать, как в прошлом году из-за вашей болезни. Я шлю вам свои самые искренние поздравления и очень сожалею, что не могу быть с вами в этот день. Я очень рад, что Хопи привезла вам такие незаменимые вещи, безусловно, хорошего качества. Я очень хочу, чтобы вы поскорее надели их. То, что она привезла для меня, тоже крайне необходимо, потому что я хожу в лохмотьях; я пытался купить здесь что-нибудь из нижнего белья, но все невероятно дорогое и некачественное. Когда я получу эти вещи, я напишу Хопи благодарственное письмо.
Я особенно прошу вас не забывать об очень важной вещи: первое мая - это дата погашения кредита у Вострякова. Нужно обязательно поговорить с ним до этой даты, заплатить проценты, я думаю, 600 рублей, и попросить его продлить кредит еще на год. Ссуда была оформлена на мое имя, и если этот вопрос не будет урегулирован в установленные сроки, я окажусь в крайне неприятной ситуации. Узнайте у него; возможно, мне следует написать ему личное письмо с просьбой продлить выплату долга еще на год. Нужно быть очень дотошным и пунктуальным в денежных вопросах.
Андрей Шувалов появился здесь в поисках подходящей должности для себя. Вчера вечером я встретил на улице варшавского Улана Притвица, он бежал из Одессы и сказал мне, что моя мама, Таня и Тока* остались в Одессе. Он сказал, что в последнее время здоровье моей матери несколько улучшилось.
Гребенщиков** тоже прибыл сюда из Одессы, после множества невероятных страданий и путешествия в ужасных условиях на Принцевы острова и в Константинополь. Оттуда он отплыл в Новороссийск на французском судне, экипаж которого, по его словам, состоял из ярых большевиков, и путешествие было далеко не из приятных. Я совершенно не знаю, как долго пробуду в Ростове.
Как хорошо, что снова можно пользоваться почтой. Не пропустите отправление Остен-Сакена в Ростов.
*Мама – Ольга Николаевна Миклашевская (ур. Тройницкая). Таня – сестра Ильи, Татьяна Михайловна Гагарина (ур. Миклашевская), Тока – ее муж, князь Анатолий Анатольевич Гагарин, сослуживец Ильи по Кавалергадскому полку.
** Гребенщиков Сергей Яковлевич, генерал-майор, командир Лейб-гвардии Драгунского полка; его теща и мать Ильи – родные сестры.
Я пользуюсь этой возможностью, чтобы отправить вам письмо, надеясь, что оно дойдет до вас быстрее и надежнее, чем то, которое я отправил по почте.
На всякий случай, я повторяю просьбу, которую высказал в предыдущем письме. Это касается долга перед Востряковым, срок погашения которого наступает 1 мая. Необходимо поговорить с Востряковым до наступления срока погашения, выплатить ему проценты, по-моему, 600 рублей, и попросить его продлить срок погашения еще на год. Это кредитное письмо было написано на мое имя, и если проценты не будут выплачены в установленный срок и не будет достигнуто соглашение о продлении срока погашения, я окажусь в очень неудобном положении человека, который не выполняет свои обязательства.
Это письмо обещал передать вам некий Христофор Иванович Узунов, богатый человек, армянин. Я встречался с ним в Кисловодске и Баталпашинске. Здесь я познакомился с ним ближе. Он очень дружелюбен и по какой-то причине поддерживает со мной дружеские отношения, вероятно, из-за «высокого» положения, которое я занимаю; он даже пригласил меня к себе в отель на чай и угостил превосходной ветчиной и чаем с вареньем. Он также предложил помочь привезти сюда вещи из Кисловодска, так что, если вы еще не прислали мне вещи, которые привезла Хопи, может быть, вы могли бы воспользоваться его предложением.
Прошло уже две с половиной недели с тех пор, как мы расстались, и одному богу известно, когда мы встретимся снова.
Вчера около 3 часов, я пришел домой c обеда, который устроил Врангель по случаю прибытия атамана Филимонова с Кубани, и нашел Гендрикова спящим в моей комнате. Он, конечно, проснулся, и мы стали говорить, он передал мне ваше письмо и первую партию нижнего белья, которое привезла Хопи. Нижнее белье великолепно и очень хорошо сидит, особенно рубашки и носки. Трусы довольно широки и больше подошли бы Гендрикову, но это не имеет значения. Я перешил пуговицы и уже ношу их так. О продаже их не может быть и речи. Нижнее белье такого качества здесь не найти ни за какие деньги. Рубашки, которые здесь продают, невероятно короткие, вероятно, для экономии материи, и они едва достигают низа живота, что очень неудобно. Я написал благодарственное письмо Хопи.
Идя домой с ужина, я встретил Галла, который сказал, что принес письмо от вас с другой партией нижнего белья. Он обещал принести все это в течение часа, но его еще нет. Я жду его с нетерпением.
Мне поручили устроить ужин для Филимонова, и все сочли, что он прошел с большим успехом. Я сам давно не ел такой еды, ни такой вкусной, ни такой изысканной. Меню на ужин было такое: много закусок, горячего и холодного, свежая икра и т. д. Осетрина а-ля «кардинал», дикая утка по-руански и торт-мороженое «пломбир». Конечно, все это стоит сумасшедших денег, но все это оплачивается из каких-то специальных фондов. Этим я занимаюсь здесь, в Ростове вместо того, чтобы вести войну. Надеюсь, я не останусь здесь надолго, чтобы играть роль эпикурейца.
Я очень рад, что у вас есть немного денег, но боюсь, что при нынешних высоких ценах их хватит ненадолго. На данный момент я не трачу деньги и пришлю их вам, если вы в них нуждаетесь. Странно, как Хопи увлеклась покером. Ее безумная суетливость по поводу грязных собак и их вторжений в дом мне совсем не по душе. Хорошо, что все это происходит в мое отсутствие.
2 мая
Я очень благодарен вам, моя дорогая, за письма и нижнее белье. Я только что получил еще одну партию, принесенную Остен-Сакеном. Вы меня спрашиваете, почему я не приеду в Кисловодск прежде, чем приму свою бригаду. Я не могу приехать сейчас по двум причинам. Во-первых, я еще исполняю обязанности «генерала по особым поручениям» и не могу попросить отпуск, потому что это было недавнее назначение; во-вторых, в Кисловодске мне теперь негде было бы жить. Я только что получил приказ приехать к Врангелю сегодня в 7 часов вечера, поскольку он вчера уехал на фронт и сегодня должен был вернуться. Видимо, произошла какая-то перемена, мне приказано ехать на Торговую улицу.
Я прибыл в Новороссийск два дня назад и жду, когда корабль отправится дальше. Вероятно, можно будет выехать завтра или, самое позднее, послезавтра.
Пожалуйста, скажите Хопи, что между Новороссийском и Батумом нет регулярного судоходного сообщения. Корабли просто отходят, и о дне их отхода можно узнать только за три-четыре дня. А для этого нужно быть здесь. Кроме того, чтобы поехать в Батум, нужно разрешение.
Если будете продавать мои черкески, пожалуйста, не продавайте папаху, я могу носить ее зимой.

Илья Михайлович Миклашевский с детьми Георгием и Надеждой.
Кисловодск, 1919 г.
Наконец-то 27 числа я добрался до места назначения, это железнодорожная станция Алибай, где временно разместится мой штаб в вагонах. Я получил участок фронта, который завтра возьму на себя.
В моем последнем письме я дал вам не совсем правильный адрес. Письма следует адресовать так: Керчь, Железнодорожный полустанок Алибай, Штаб Отдельной кавалерийской бригады, мне. Судя по всему, вместе с армейским поездом сюда каждый день приезжает почтовый вагон, так что можно надеяться, что почта будет работать неплохо.
Пишу вам, неловко сидя за маленьким столиком купе. В Алибае нет ничего, кроме железнодорожной платформы, окруженной засеянными полями, на которых ожидается очень хороший урожай. Азовское море находится всего в 4-5 верстах, но из-за холмистой местности его отсюда не видно.
Что вы делаете, моя дорогая? Вы все еще заняты своим комитетом и игрой в покер? Какие у вас отношения с Хопи? Собирается ли она поехать в Батум? Дети здоровы? Я теперь думаю, что в следующий раз я увижу вас не скоро.
Очень грустно, что до сих пор я не получил от вас новостей. Я здесь уже шесть дней. Знакомлюсь со своей бригадой и с местностью наших позиций, которые на правом фланге примыкают к Азовскому морю. Не имея ничего своего, мы временно кормимся у сотрудников телеграфной компании в здании железнодорожной станции, стоящей в открытом поле, так что мой поезд каждый день подвергается очень сильному ветру, характерному для местного климата. Пока мы стоим на одном месте, я живу как король в своем поезде.
У меня есть маленькое служебное помещение, состоящее из одного купе, где я сплю, и небольшой гостиной, где я работаю. Когда мы начнем двигаться вперед, нам придется, по крайней мере вначале, сходить с поезда и ночевать в деревнях. Корабли английского флота стоят на Черном и Азовском морях у правого и левого флангов нашей позиции и приносят нам большую пользу. При необходимости их мощные орудия ведут огонь по позициям противника. Стоящие здесь части организовали бартерную торговлю с англичанами, они снабжают корабли яйцами, овцами, курятиной и т. д. и получают взамен сахар, шоколад, консервы и виски.
Я постоянно думаю о вас... и мысль о том, что вы без денег и что я не могу вам помочь, заставляет меня страдать.
Побывав летом в южных городах, можно оценить, какое прекрасное место Кисловодск для дачной жизни. Если бы вы были здесь, вы и дети полностью зачахли бы. Жизнь в Ростове дорожает с каждым днем, цены на все существенно выросли с момента моего последнего пребывания. Однозначно, Ростов – самое дорогое место на свете, хотя говорят, что в Харькове жизнь еще дороже.
Младший улан Фермор, возвращающийся в Кисловодск, должен сегодня отвезти вам это письмо.
Получить Ваше любезное письмо от 8 июля тотчас по приезде в Люботин меня очень обрадовало. Из Ростова в Харьков ходят прямые поезда, и едут они с невероятной скоростью, всего 16 часов. Давно я не путешествовал так быстро. Последний раз я был в Харькове лет 28-29 назад, еще мальчишкой, и, конечно, совершенно не узнал город, украсившийся за это время великолепными домами. Жизнь там чрезвычайно дорогая, но в магазинах полно товаров, которых нет в других занятых нами городах. Здесь можно найти промышленные изделия, посуду, изделия из стекла и многое другое. Сахара много, и в частной торговле он стоит 20 рублей за фунт. Ужин в гостинице стоит 50 рублей, буханка хлеба 15 рублей.
Я прибыл в Люботин 13-го числа, мой штаб уже был здесь, но только вчера дивизия начала выгружаться и комплектоваться.
О моем здоровье не беспокойтесь, я чувствую себя хорошо и совершенно забыл о ране, которая никак себя не проявляет. Приятно чувствовать, что я снова в России, вдали от казачества.
Я попробую отправить это письмо по почте. Пожалуйста, запомните, в какой день оно дойдет до вас, и сообщите мне, чтобы узнать, можно ли положиться на почту.
Да... тяжело постоянно жить отдельно от вас и детей и не знать, когда все это закончится. Скоро пойдет шестой год такой жизни!
Управились ли вы своими денежными делами? Хопи приехала? Как только у меня накопится немного денег, я постараюсь послать их вам.
Сегодня мы двинемся... к новому месту сосредоточения в районе села Рублевки, что примерно в ста верстах к северо-западу от Харькова. Наше наступление, вероятно, начнется оттуда. Мы сейчас въезжаем в настоящую глушь, вдали от железных дорог, и наша переписка с вами, вероятно, прервется на длительный период.
Вчера я рад был получить ваше письмо от 16 июля, которое мне привез Львов... Вы опять беспокоитесь о моем здоровье. Чувствую себя очень хорошо, рана никак не дает о себе знать. Два дня я немного болел, то ли насморк, то ли болел живот, но сейчас я полностью выздоровел.
Отъезд Мурзы за границу, безусловно, дает пищу для множества пересудов.
Бедная моя... Мне очень жаль, что Хопи вынуждена остаться с вами на неопределенный срок. Пожалуйста, передайте ей мой сердечный привет. Однако пребывание Хопи в Кисловодске имеет и хорошие стороны и является для меня облегчением в том смысле, что она всегда найдет способ помочь вам в денежных вопросах и не даст умереть с голоду.
Я только что получил ваше письмо от 1 августа, принесенное мне конногвардейцем Шостаком, и недавно ваше письмо от 19 июля, принесенное Иорданом, который уже давно не мог догнать дивизию. Но я еще не получил те два письма, которые вы написали между, и именно поэтому ваше последнее письмо мне не совсем понятно. Когда Хопи уехала и куда? Неужели у вас хватило смелости, и решили расстаться с Ольгой? Я от всей души приветствую этот шаг и думаю, что уход Ольги очень хорошо повлияет на образование Георгия...
Вы, вероятно, уже знаете, что Смела в наших руках и что наши части находятся в 30 верстах от Киева. Я был бы очень рад, если бы вы переехали в Киев или в Одессу, потому что сейчас Кисловодск стал слишком отдаленным, и, кроме того, я понимаю, что вам скучно там оставаться, но о Киеве сейчас еще рано думать. Даже если он будет взят в ближайшее время, в чем я не сомневаюсь, придется подождать, пока фронт отойдет от него еще дальше. Не исключено, что моя дивизия скоро двинется в сторону Киева.
Сегодня, после того как мы взяли Бахмач, сюда приехал Юзефович, он остался очень доволен работой дивизии, произвел осмотр и нашел ее в отличном состоянии.
Появилась возможность послать письмо в Ростов и поэтому пишу вам несколько слов.
Я все еще нахожусь в Бахмаче со штабом своей дивизии, но вынужден посылать небольшие отряды в разные стороны, чтобы захватить важные для нас места и поймать оставшиеся отдельные банды красных.
Вчера местные железнодорожники организовали вечер в пользу Добровольческой армии, на который я, конечно, получил почетный билет. Они поставили спектакль на украинском языке, за которым должны были последовать танцы. Я посетил два акта спектакля, которые были весьма неплохо поставлены для любителей, а затем вернулся домой.
Мой штаб находится в большой школе, учительница которой выделила мне свою комнату, довольно чистую и с хорошей кроватью.
В течение трехнедельного похода мы жили вполне спартански и ели очень мало: утром пили какой-то заменитель чая с молоком, а вечером, когда останавливались на привале, меню нашего ужина неизменно состояло из омлета с салом.
Прошло бесконечное время, когда я не получал от вас писем. Последнее письмо было от 1 августа. Ужасно грустно находиться так далеко от вас и быть совершенно лишенным почтовой связи.
Если не ошибаюсь, я писал вам из Бахмача после того, как его взяла моя дивизия. С тех пор прошло много времени и многое изменилось. Дивизия моя растянулась более чем на сто верст. Одна часть ее осталась в Бахмаче, другая заняла Нежин и, наконец, один полк был направлен против Чернигова.
Есть ли у вас новости из Одессы?
Жаль, что я теперь не свободен и не могу поехать туда, чтобы узнать, жива ли еще моя мать и в каком положении Таня и братья.
Я не знаю, что я могу придумать, чтобы получать от вас какие-либо новости. Неужели между Кисловодском и дивизией нет связи? Вы получили 500 рублей, которые человек Граббе взял у меня в долг и которые он должен был передать вам в Кисловодск? Я мог бы выслать вам больше денег, но, к сожалению, для этого нет возможности.
Как мне скучна эта цыганская жизнь!
Вчера я был очень рад получить наконец ваше письмо от 29 августа. Промежуточных писем я не получил. Многое изменилось после 3 сентября. 6-го я снова занял Бахмач и преследовал красных за рекой Сейм. Первая дивизия заняла Конотоп. Таким образом, прорыв был исправлен. Далее мы намерены двигаться на Кролевец и дальше. В Киеве мы не были, там действовала пехота гвардии. О переезде в Киев пока не может быть и речи, город сильно пострадал от большевистской оккупации и цены там неописуемо высоки. Так, ужин из двух блюд в «Континентале» стоит 500 рублей.
Вчера я послал вам письмо... с Мевесом, но боюсь, что оно дойдет до вас не скоро, так как Мевес будет ехать через Киев, и поэтому я думаю, что вы получите это письмо раньше вчерашнего.
О поездке в Киев пока нельзя и думать, во-первых, потому, что Киев сильно пострадал от большевистской оккупации и цены там невероятно высоки; а во-вторых, потому, что ситуация в Киеве еще не стабилизировалась, большевики оказывают давление со стороны Чернигова и находятся в нескольких верстах от Нежина, с запада угрожают галичане и партизаны Петлюры и вдобавок ко всему украинский вопрос до сих пор не решен, а украинская пропаганда и агитация еще больше усложняют дело. Таким образом, Киев подобен вулкану и совершенно не приспособлен для спокойной жизни. Не лучше ли вам было бы переехать в Крым? Говорят, жизнь там прекрасная, цены сравнительно невысокие, совершенно тихо, есть незанятые квартиры. Кавалергард Безобразов недавно вернулся оттуда, его жена живет в Ялте и с энтузиазмом относится к Крыму. Что касается Киева... о нем лучше не думать. Мы не скоро сможем переехать туда с уверенностью жить мирно.
Я в отчаянии. Я вообще не получаю от вас никаких писем и не знаю, чем вы занимаетесь и здоровы ли вы и дети. Ваше последнее письмо было от 29 августа, и с тех пор не было ни звука.
Я наконец избавился от Бахмача, где мне было так скучно, форсировал Сейм у Батурина и теперь обречен на такое же пассивное стояние на Десне. Мне предстоит охранять огромный участок от впадения Сейма в Десну почти до Новгород-Северска.
Здесь, после нескольких чудесных дней ранней осени, теперь началась настоящая осень, похолодало с проливными дождями, у нас непроходимая грязь и, вообще говоря, все очень мрачно и невесело, особенно если подумать, что таких еще много дней впереди, а после этого наступит зима со всеми «удовольствиями», которые она принесет.
В августе один из моих комбригов, барон Притвиц, уехал в отпуск в Одессу, где увидел Таню, Току и моих братьев и привез мне от них письма. Здоровье моей матери очень плохое, и в любой момент нас может ожидать фатальная проблема. Она очень хотела бы меня видеть, и мне надо было бы поехать в Одессу, но сейчас я категорически не могу покинуть дивизию. Таня пишет, что собирается написать вам. Котя и Вадим хотели поехать в имение, чтобы попытаться собрать с крестьян деньги на аренду земли. Котя говорит, что у него есть для меня 30 000 рублей. Это еще одна причина, по которой мне необходимо поехать в Одессу, чтобы получить эти деньги и отправить их вам, но, к сожалению, сейчас это невозможно.
Отсюда я не могу писать ни матери, ни братьям, потому что нет возможности отправлять письма. Возможно, вы могли бы написать им, воспользовавшись почтой. Вот их адрес: моя мама, Казарменный 4, Таня: дача Приют или Екатерининская 2, братья: улица Гоголя 19.
Посылаю вам 5000 рублей с уланом Вуичем, он едет в Ростов и, может быть, в Кисловодск. Если он не поедет в Кисловодск, то отправит деньги почтой из Ростова.
Очень больно осознавать, что моя мама умирает, и что я не могу к ней поехать. Закончатся ли когда-нибудь эти проклятые времена? Бывают моменты, когда я просто не могу продолжать такую жизнь!
Нехорошо это писать. Нельзя сдаваться и унывать, хотя бывают моменты, когда просто не хочется жить.
Вдобавок ко всему, я совершенно перестал получать от вас какие-либо письма, и не имею никакой надежды увидеть вас в ближайшее время.
Судьба забросила меня в город Глухов, где я живу в великолепном здании земского собрания, построенном Терещенко. Я узнал, что Глухов — родной город миллионера Терещенко, здесь находится его фамильный усыпальница, построенная им великолепная церковь, а также памятник, воздвигнутый в его честь городом, но ныне лежащий обезглавленный на земле. Глухов расположен глубоко в глубинке, но здесь все еще есть электрическое освещение и несколько интересных старых церквей.
Моя дивизия теперь настолько рассредоточена, что у меня почти ничего не осталось. Мы обнаружили, что Черниговская губерния — одна из самых худших по настроению населения. В ней действует невероятное количество банд, которые проделывают всякие гадости вроде поджога железнодорожных мостов, порчи телеграфных линий и т. д. Почти в каждой деревне одиноких солдат расстреливают вооруженные крестьяне. С этими бандами очень трудно бороться, потому что по мере приближения наших войск они рассеиваются и прячутся в лесах, которых здесь много. Это создает очень серьезную проблему.
Вы жалуетесь, что редко получаете от меня письма, так что же мне сказать? Я пишу вам свое 13-е письмо, а получил от вас только восемь, да и то два последних, которые я получил два дня тому назад, очень старые, так как датируются серединой августа. Как досадно отсутствие связи по почте! Я пишу это письмо, потому что очень хочу поговорить с вами, но понятия не имею, когда смогу его послать. Надеюсь, вы получили все письма и деньги, которые я вам послал. Вам следует нумеровать свои письма, потому что тогда я смогу знать, дошли ли мои письма до вас или нет. Надежды на получение отпуска у меня очень мало. Согласно новым приказам, командиры дивизий могут уйти в отпуск только с разрешения командующего армией. Вопрос об отпуске я могу поставить не раньше середины ноября, когда вернется мой комбриг Данилов. Один из моих офицеров скоро поедет в Одессу. Я отправлю письма маме, с ним Тане и Коте, прошу Котю выслать вам мои деньги, если такие деньги есть. Будет очень печально, если Коте не удастся добраться до Беленького, потому что от этой поездки зависит наш запас денег. Есть ли у вас какая-либо информация о местонахождении ваших дядей и о том, что происходит в Смеле? Из ваших писем я не мог понять, чем занимается ваша мама и почему она едет с американцем!
Шидловская, которая была здесь с нашим летным медицинским отрядом, уехала совершенно неожиданно, и я узнал позже, что она уехала в Кисловодск. Я очень злюсь на нее, потому что она мне об этом не сказала. Я не смог узнать, что произошло, и почему она так поспешно уехала.
Попробуйте адресовать свои письма так: Добровольческая армия, штаб 5-го кавалерийского корпуса, мне. И отправить их по почте. Не знать, что вы делаете, и не иметь от вас вестей невыносимо.
Я не могу упустить возможность, чтобы кто-то поехал в Кисловодск и не написать вам несколько слов, хотя мне не о чем писать и я могу только повторять одно и то же. Что мне очень грустно, потому что уже второй месяц я не получаю от вас вестей, что это меня расстраивает и что мне хотелось бы поскорее вас увидеть и обнять. Это мечта, которая не может быть осуществлена сейчас.
Здесь сейчас наступила зима, морозно и падает снег. На санках уже можно кататься. Если, сверх всех ожиданий, у вас появится возможность отправить посылку из Кисловодска, пришлите мне, пожалуйста, мою папаху. Наверное, я смогу найти здесь полушубок. Вчера получил письмо от Коти из Екатеринослава, где он находился 18 дней в ожидании возможности поехать в Александровск, которая так и не появилась, и он возвращается в Одессу. Александровск по-прежнему оккупирован Махно. Он пишет, между прочим, что Беленькое теперь выставлено на продажу после смерти владельца Мазараки, и что оно до последнего времени не было разрушено, а разграблено лишь несколько дней назад.
Как я был прав, когда написал вам, что ни при каких обстоятельствах не следует мечтать о Киеве. Говорят, что во время временной оккупации большевиками там творились ужасы, и еще не скоро там можно будет жить спокойно.
Мне самому очень скоро понадобится полушубок. Тот, который я вам оставил, находится в ужасном состоянии, но сейчас не время привередничать. Когда приеду в Кисловодск, можно будет его немного отремонтировать.
Все, что сейчас происходит, — сущий кошмар. Я совершенно не могу себе представить, чем закончится наше отступление, и как мы остановим красных. Я в ужасных условиях отступал от Глухова к Рыльску и Ромнам только с первой бригадой. Два других полка от меня уже давно отделились. Приехал сегодня утром в Лозовую, все станции страшно забиты армейскими частями. Станция Лозовая — настоящий ад, вся она заполнена больными тифом мужчинами, которые умирают на месте, не получив никакой помощи.
Сегодня именины Георгия. Поздравляю вас, моя дорогая, и передайте Джорджи, что папа поздравляет и целует его. Я отправил вам мое последнее письмо с Мейендорфом из Нижней Сыроватки под Ромнами и просил его перевести вам 3000 рублей. Еще раз поздравляю вас, моя дорогая и драгоценная, с недавним празднованием дня вашего рождения и именин. Я так надеялся быть с вами в эти дни…
«В конце 1919 года отец приехал в Кисловодск после развала Деникинской армии и был встречен Надей у дверей. Затем она рассказала ему, что у нее только что родился новый младший брат, и отец был крайне удивлен, потому что мать никогда не говорила ему, что беременна, думая, что это заставит его еще больше нервничать в эти опасные времена войны. Однако Надя сочла его удивление вполне естественным, ведь в ее мире девятилетней девочки именно так и должны были появляться на свет дети. На самом деле мои роды прошли совершенно безболезненно, и накануне вечером мама играла в бридж. К сожалению, она не помнила, выиграла она или проиграла в тот день.
Однако у отца были еще более неотложные дела, и он сказал матери, что она должна как можно скорее покинуть Кисловодск. Для этого ей пришлось воспользоваться медленной и окольной железной дорогой, которая все еще связывала ее с Новороссийском на Черном море, откуда она могла отправиться в Константинополь. Сам он готовился воссоединиться с остатками Белой армии, отступавшими в Крым.
Сообщение между Кисловодском и Новороссийском всегда было затруднено, но в это время, с приближением красных, линию пришлось оставить и последний поезд уже собирался покинуть Кисловодск. Все места уже были заняты, и не было никакой надежды попасть туда каким-либо другим способом.
Отчаянно бродя по улицам Кисловодска в поисках решения, отец случайно встретил английского офицера, с которым у него были дружеские отношения, когда он общался с англичанами от имени Белой армии.
Офицер отвечал за эвакуацию некоторого имущества, принадлежащего его правительству, и для этого он имел в своем распоряжении целый вагон этого поезда и мог предложить купе нашей семье. Таким образом, наш побег с фронта Кисловодска был не чем иным, как чудом.
Письма матери отцу сообщают нам некоторые подробности нашей поездки. В письме от 14 января она сообщает, что мы доехали очень хорошо и по чистой случайности нашли две комнаты, где можно было остановиться.
В письме от 16 января есть следующий отрывок:
«...Мы по-прежнему живем в тех же двух комнатах, которые получили в день приезда; конечно, здесь очень тесно и неудобно, но здесь все так живут, и очень повезло, что мы так поселились. В каждой комнате по одной кровати, поэтому мы с Домной спим на кровати; я сплю на кровати с Джорджем. Мы зарегистрировались на следующий британский корабль, но когда он прибудет, никто не знает, говорят, что это будет через неделю или через десять дней; надеемся, что нам удастся получить каюту. У Домны есть друг, англичанин в миссии, который обещал все организовать, кроме того, мы постараемся, чтобы Кис заинтересовался нами. Что касается Мити (Дмитрия Шереметева), то официального разрешения на выезд к нам пока не получено, но в частном порядке ему сказали, что его просьба будет удовлетворена, так что, думаю, ему не о чем беспокоиться. Я очень возмущена тем, что происходит в этом отношении - очень много людей, которые могли бы быть здесь полезны, но которые в панике бегут и которым всеми правдами и неправдами под предлогом болезни удается освободиться; это возмутительно и постыдно, и я понимаю, что англичане тоже негодуют...».

Екатерина Алексеевна Миклашевская (ур. Бобринская)
перед отъездом из России. 1920 г.
Мать, должно быть, уехала из Новороссийска вскоре после того, как написала это письмо. Помню, как Надя рассказывала мне некоторые подробности той поездки. У матери не было денег, чтобы заплатить за билеты, и она со слезами на глазах умоляла тетю Домну одолжить ей необходимую сумму, что тетя Домна наконец и дала. Кораблю «Афон» пришлось остановиться в Варне (Болгария) для дезинфекции и медицинского осмотра пассажиров. Надя вспомнила, как некоторые болгарки грубо толкали их в душ, говоря «ходи, мадам, ходи», бедный вариант русского языка с болгарским акцентом, означающий «двигайтесь, мадам, двигайтесь».

Домна Алексеевна Шереметева (ур. Бобринская)
Пребывание в Константинополе и поездка в Париж описаны в следующем письме из Парижа от 17 марта:
«...Домна и Митя остались в Константинополе. Когда я была там, я колебалась, что делать: оставаться в Константинополе было бесполезно и невозможно, ибо жизнь там стоила очень дорого; можно было бы остаться на Принцевых островах, но у меня не было ни малейшего желания туда ехать, так как я слышала, что там болело много детей, и условия были довольно плохими. Только поездка в Париж имела смысл, потому что там были все мои родственники и Фурик написал мне, чтобы сообщить, что у него там есть немного денег, которые мне дадут его братья. Хотя было очень грустно отдаляться все дальше от вас, я решила приехать сюда. Мы плыли на превосходном корабле, в превосходной каюте второго класса; у нас было три койки и четвертая для Марии Бобринской, вдовы Александра; она была очень мила и помогла мне, так что мы стали друзьями. Но мы долго плыли, потому что нам пришлось высадить французские войска в Африке, и тогда мы попали в ужасный шторм; даже моряки говорили нам, что в Средиземноморье редко бывают такие сильные шторма; все вещи летали туда-сюда по каюте, дети болели и их рвало, няня рыдала и была уверена, что мы вот-вот погибнем. Мари тоже была напугана и думала, что нам грозит большая опасность. Чтобы дождаться окончания шторма, мы пришвартовались на Сардинии и пробыли там 48 часов. В Марселе мы остановились в гостинице и только на следующий день поехали дальше; мы провели в поезде одну ночь, но это было очень неудобно, потому что у нас были только сидячие места; с трудом устроили так, чтобы дети могли лечь...».
Наконец, из следующего письма мы узнаем о первых днях в Париже:
«Я написала вам вчера... и рассказала о нашей поездке. В Париже было очень приятно увидеть всех своих родственников и друзей. Дядя Андрей и дядя Георгий сильно постарели. Ло и Владимир не изменились, очень добрые и очень милые, постоянно приходят ко мне, помогают, присматривают за детьми. Я ценю их. Эллен приехала сюда на несколько дней из Лондона, она похудела и выглядит несчастной; она разводится с Бутурлиным, потому что он терпеть не может мальчиков (сыновей от первого мужа Оболенского). Эллен как всегда бессвязна. В целом люди не меняются. Даруся здесь, всегда одна и та же. Софка такая же блестящая и элегантная, как всегда. Здесь меня ждало большое разочарование: Фурик писал мне в Константинополь, что я смогу получить здесь его деньги, но его братья говорят, что это была ошибка, и что у него здесь ничего нет. В Константинополе я продала мех Хопи, но этого хватило только на поездку, и я прибыла с очень небольшими суммами. Мне дали здесь кредит, и я буду получать 3000 франков в месяц, на такую сумму будет очень трудно прожить, но все же мне придется как-то прожить. Я написала Фурику в Неаполь, но боюсь, что он мне не поможет, потому что у него, кажется, очень мало денег на себя. Я не могу решить, где и как жить; я жду приезда Нико, его сейчас здесь нет; есть возможность жить у него под Парижем. Если нет, возможно, я сниму виллу в Фонтенбло. В целом это все еще очень неопределенно. Здесь, конечно, у меня много друзей, и многие из них живут в этом отеле. Я почти никогда не выхожу на улицу, потому что мне почти все время приходится быть с детьми. Няня по-прежнему еще более невыносима и безумна, чем когда-либо. Жду отправки ее обратно в Россию. Но сейчас это очень сложно. Несмотря на мою бедность, я хочу нанять для Нены английскую гувернантку, которая в то же время была бы отчасти похожа на Джорджа. Очень тяжело находиться в Париже при таких обстоятельствах и без денег. Я помню, как хорошо провела время здесь с вами, мой дорогой. Вечером мы все встречаемся у тети Ольги; они живут в этом же отеле. К счастью, дети здоровы. Павел такой чудесный ребенок, во время поездки он был таким тихим и спокойным, что все были поражены. Самым трудным был Джордж, который всех беспокоил; больно видеть, как няня его балует, но я ничего не могу с этим поделать, пока не появится возможность отправить ее обратно в Россию. Нена, конечно, милая и всегда мне помогает. Тока сейчас здесь, он приехал на несколько дней. Таня и ее маленькая девочка в Ницце...».
Кажется, из Константинополя в Марсель мы ехали на одном и том же корабле, «Афоне», который затем стал собственностью Франции в соответствии с описанным выше соглашением Врангеля с французами.
Отец, присоединившийся к армии Врангеля в Севастополе весной 1920 года, не участвовал ни в каких военных действиях в Крыму, поскольку у Врангеля было слишком мало войск, чтобы использовать всех имеющихся у него старших офицеров. В конце концов, в октябре того же года он был эвакуирован вместе с остатками армии Врангеля в Константинополь. Там ему пришлось подождать некоторое время, прежде чем он смог получить документы, необходимые для иммиграции во Францию, и, наконец, в начале 1921 года он присоединился к своей семье в Болье недалеко от Ниццы».
Людмила Миклашевская, жена брата Ильи, Константина, так писала о жизни Миклашевских в Ницце: «Гагарины доживали крохи бывших княжеских капиталов. Жили они в собственном двухэтажном домике в Ницце, и это им казалось чудовищным. Хуже жил старший брат Илья. Этот бывший блестящий кавалергард, лошади которого считались чуть ли не лучшими в кавалергардской конюшне, работал в гараже мойщиком машин, он же делал кое-какой ремонт. Мы пришли к нему в гараж, он был в брезентовой робе, руки до локтей в черных жирных пятнах. Он немного смутился, но улыбка была такой мягкой и доброй, что мне с ним стало очень легко разговаривать...».
Итак, в 1920 году у Ильи и Екатерины родился сын Павел.
Несмотря на тяжелое материальное положение в семье Ильи, родители смогли дать хорошее образование всем троим детям.

Дети Ильи Михайловича Миклашевского: Павел (1920-2011), Георгий (1918-1997),
Надежда (1910-1988). Фото 1930 г. Ницца
О жизни Нади можно прочитать здесь, о Георгии – здесь. Младший, Павел, по окончании гимназии поступил в очень престижную Высшую коммерческую школу в Париже, которую окончил в 1940 году. С началом вторжения немецких войск во Францию (май 1940 г.) Павел Ильич был призван в армию, а после подписания капитуляции сумел уклониться от высылки в Германию на принудительные работы. Позднее, уже после войны, в Канаде он получил еще один диплом финансового аналитика, где и прожил до самой кончины в феврале 2011 года.

